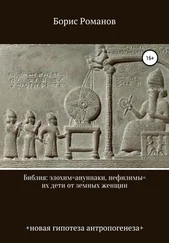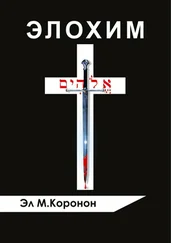Комендант очень переживал из-за того, что не может найти более безболезненный и эффективный способ уничтожения «расовых отбросов», но ему не хватало времени для научных экспериментов и поисков, так как он всего себя, всю свою энергию отдавал великой миссии коменданта Треблинки, служителя «мировой гигиены».
Рядом с комендантом и Куклой ошивался вездесущий фельдфебель Кюттнер, по кличке Легавый. Испытующе косился на спины рабочих евреев, оценивал скорость их беготни. Кюттнер всегда ходил неслышно, как привидение: вырастал за спиной рабочих зондеркоманды и начинал размахивать хлыстом, стегая плечи, шеи и лица, наказывал за нерасторопность. В каждом его движении чувствовалась не просто многоопытность, а какая-то неотъемлемость и прирожденность: в прошлом, еще до войны, он служил тюремщиком, поэтому неудивительно, что Легавый, как и Курт Майер, настолько же гармонично вписывался в лагерный мир Треблинки, насколько окрестные сосны – в окружающий, такой славянский, пейзаж этих бедняцких красок: покатых простодушных полей, густых и хмурых лесов, молчаливых холмов.
Тутже подле стояла полная противоположность Ляльки и Легавого – унтершарфюрер Карл Зайдель, плюшевый толстяк, похожий на пекаря, добродушный и уютный бюргер, неведомо какими путями оказавшийся в этом месте. Карл Зайдель был единственным из надзирателей, кто обращался к членам зондеркоманды на «вы», вызывая оторопь и настороженное недоумение рабочих евреев.
Некоторые зондеркомандовцы доходили до циничного отупения и радовались, когда среди хвойных ветвей появлялись не полинялые теплушки из Польши или Гродно, а роскошные пульмановские вагоны с Запада, прежде всего из Франции, в которых сидели беззаботные дамы с высокими прическами, пили кофей из тонкого фарфора, а мужчины с бабочками курили сигары и с брезгливым недоумением выглядывали в окно поверх хрустальных ваз и блестящих бутылок, пытаясь понять, куда же их привезли. Зондеркомандовцы не без смака открывали их пузатые саквояжи и чемоданы из дорогой кожи: сортируя ценности для немцев, они приседали и засовывали в голенища сапог золотые монеты, пихали в карманы пачки хороших сигарет. Сортировщик-сластена маленький Авраам набивал рот шоколадом, какао и с удовольствием причмокивал: ой-вэй, какой богатый эшелон, ой-вэй, нет, это ж надо. После ликвидации таких составов работяги из зондеркоманды выбирали себе из стопок одежды свежие рубахи и сапоги подобротнее, переодевались, примеривались, как в магазине, пока немцы и травники не смотрели в их сторону, а вечером, когда лагерь смолкал, хрустели печеньем с джемом, трескали рыбные консервы, кукурузный хлеб и отламывали куски от увесистых сырных голов, запивая все это изобилие элитным коньяком. Рассортированное имущество уничтоженных евреев зондеркоманда комплектовала по степени ценности и укладывала в пустые грузовые вагоны, которые длинными сытыми эшелонами отбывали в Бремен, Ахен или Швайнфурт. Другие зондеркомандовцы ненавидели себя за то, что не только наблюдают весь ужас происходящего, но и являются его неотъемлемой частью, проклинали себя за покорность, за немую кротость, за то, что, имея возможность зарезать, задушить хотя бы одного эсэсовца, а потом быть растерзанными, но оставить после себя пример мужества, все-таки не делают этого. Такие с отвращением отворачивались, отшатывались и от чавкающего причмокивания и рыганья набивающих брюхо, и от собственного отражения – от собственных лиц, которые попадались им в дамских зеркальцах, когда приходилось потрошить косметички и женские саквояжи, – они не узнавали этих лиц, не узнавали в этих маленьких зеркалах себя. Были и те, кто провожал в камеру своих родных и близких: жену, сестру, собственных детей, кто-то из зондеркоманды входил в газовые камеры вслед за ними, а кто-то подбегал к травникам и просил пулю, иные замыкались, проваливались в себя, в стертое, обезличенное, отравленное навеки «я», и продолжали выполнять свою работу, задушенные страхом или парализованные безразличием. В зондеркоманде нашелся еврей, оказавшийся решительнее других: во время уничтожения очередного состава он заколол эсэсовца Макса Биала – воткнул нож в грудь, а затем полоснул по горлу. Эсэсовец не успел даже свалиться на землю, как смельчака распотрошили пули. Один из украинских бараков немцы назвали казармой имени Макса Биала.
Травники примкнули к империи Третьего рейха по разным причинам: одни ненавидели коммунистов больше, чем фашистов, другие искренне симпатизировали последним как представителям новой политической системы, еще не успевшей насолить лично им, притеснить их национальные интересы; впрочем, всеми ими двигал страх перед смертью, а в служении немцам они получили единственную возможность не просто выжить, но каждый свой новый день встречать с набитым брюхом, с водочкой да табачком, с безответными еврейками, которые шагали перед ними нагишом. Украинцы не верили тому, насколько сладкий куш им выпал, – только знай себе постреливай в безоружных да погоняй прикладом – непыльная работенка. Испытывали они и простые человеческие чувства: среди них едва ли нашелся бы тот, кто не скучал по матери и дому. При определенных обстоятельствах те же самые травники могли бы состоять в ордене каких-нибудь тевтонцев, казачьих сотнях, батальонах НКВД или рядах наполеоновской армии, каждый из них при возможности мог бы с легкостью сменить исторические декорации и примкнуть к другой системе, присосаться к вымени иной идеи, но сейчас они были тем, чем были; так, многие эмигрировавшие после Гражданской войны казаки, являясь русскими патриотами, были тем, чем были, примкнув к силам вермахта; все перемешалось, взбесилось и спуталось, столкнув людей в кровавой бойне, в многоголосице идей, страхов, шкурных интересов и святых чувств.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




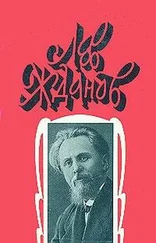
![Albireo MKG - Элохим – число множественное [litres самиздат]](/books/437466/albireo-mkg-elohim-chislo-mnozhestvennoe-litres-s-thumb.webp)