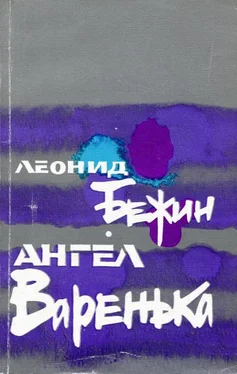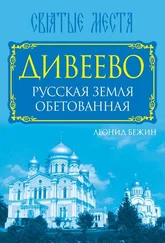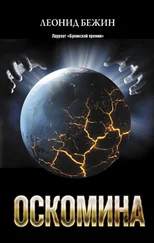Рассказывая, я ждал от Панкратова выражения солидарности, но он сказал:
— А я люблю старушек. Зачем их огорчать?
И, оставив меня с выражением оторопевшей растерянности на лице, отправился в гостиницу.
V
К концу марта в университете стали меньше топить, уборщицы мыли громадные окна, и на университетских деревьях пробовали свои коленца скворцы. Молодой преподаватель Панкратов быстро завоевал всеобщее доверие, за ним хвостом ходили студенты, а кафедральные старушки в нем души не чаяли. Особенно полюбила его Софья Леонидовна, с которой он вел себя, словно почтительный сын, участливо расспрашивал ее о здоровье любимой кошки и давал советы, как ухаживать за фикусами. Они могли разговаривать часами. Иногда на заседаниях кафедры тишину нарушал басовитый смех Софьи Леонидовны, которой Панкратов шепотом рассказывал свежий анекдот, все оборачивались на них, и Софья, прижимая к губам платок, смущенно извинялась.
Девицы на кафедре сотворили из него кумира, для начальства же Панкратов был сущий клад, мажордом-распорядитель, посылай куда угодно, хоть за погребальными венками, если — не дай бог! — понадобится. У естественников или физиков, где мужчин большинство, Панкратов не был бы на виду, но в нашем девичнике он играл роль вездесущего Фигаро. У меня его просила соседняя кафедра (для фольклорной экспедиции), к нему подбирались целинники — нужен был командир отряда, но я не дал (сами пропадем без него). Мне и в голову не приходило, какой удар он мне приготовил.
…Было обычное заседание кафедры, в пятницу, после лекций, когда все торопились домой, да и нянечка несколько раз заглядывала — ей нужно было убирать. Поэтому я был уверен, что вопрос, оставленный напоследок, пройдет легко. Обсуждалась моя книга — с тем чтобы рекомендовать в печать. Книжку эту я начал писать еще под руководством профессора Банщикова, а для людей моей специальности — это великое имя. Банщиков принадлежал к тому старому поколению ученых, для которых мир (в том числе и мир науки) был един и целостен. Для них не существовало той специализации, к которой привыкли мы, грешные, и, изучая французский рыцарский роман, они могли прекрасно знать скандинавские саги, а читая перевод Горация, без всяких затруднений сверяли его с подлинником. Даже факультеты, на которых они преподавали, носили звучные наименования: историко-философский, историко-филологический. Они не отделяли филологию от истории, историю от философии. Литература была для них вместилищем духа человеческого, целостного и неделимого во всех его проявлениях, и в биении этого духа они стремились уловить биение самой жизни, наполнявшей строчки поэм и романов. Книги профессора Банщикова и казались мне написанными о жизни, хотя он пользовался в них специальными терминами, приводил цитаты и ссылался на источники. Это была та большая классика, которой одинаково принадлежат Гоголь и его критик Белинский, Достоевский и его истолкователь Бахтин.
Сам я считаю себя лишь робким учеником Банщикова, но стараюсь по мере сил отстаивать его идеи. В этом и заключается ценность моих сочинений. И вот поднимается со стула Панкратов и ничтоже сумняшеся произносит:
— Ненаучно…
Тут лица, естественно, вытянулись, и я, словно публично получив пощечину, покраснел.
— Что вы имеете в виду? Право же, странная критика…
— Петр Петрович либо комментирует, либо выражает восторги по поводу. Это беллетристика, а не наука.
— Беллетристика? Польщен… Не наука? Сомневаюсь…
— Науке нужны точность и достоверность.
— Простите, я же не ставлю опытов над лягушками, а пишу о «Войне и мире» и «Анне Карениной». Разумеется, я стараюсь точнее выразить свою мысль, но какая еще точность тут может быть?
— Математическая.
— Вы серьезно?
Я и коллеги начали улыбаться и переглядываться. Панкратов тем временем продолжал:
— Петр Петрович повторяет ошибки тех ученых, которые в литературе изучали все, что угодно, кроме самого литературного произведения. Они пересказывали содержание «Войны и мира» и «Анны Карениной» и думали, что тем самым выражают их главную мысль. А между тем сам Толстой говорил, что если бы он захотел выразить главную мысль «Анны», ему пришлось бы заново переписать весь роман. Каждое литературное произведение — это структура, поддающаяся математическому описанию, и чем скорее мы это поймем, тем скорее избавимся от приблизительных догадок и сомнительных спекуляций. Литературоведение должно стать точной наукой, если оно хочет называться наукой вообще.
Читать дальше