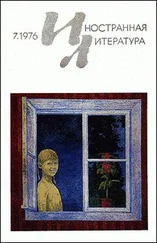Поэт произнес:
— Ваши глаза похожи на свернувшиеся сливки. Вас это оскорбляет?
Она посмотрела на него так, как смотрят на любопытное насекомое.
Поэт закатил глаза и замахал рукой.
Теперь он живо напомнил ей отца, и у нее замерло сердце. Она испуганно посмотрела на Влемка, взывая о помощи, но Влемк сидел с закрытыми глазами, бесконечно терпеливый, предоставив обоих — и Королеву, и поэта — праху времени. И вдруг ее бросило в дрожь, и тут Влемк открыл глаза. Он посмотрел на поэта так невозмутимо, что для нее весь мир перевернулся. Да, она должна научиться быть такой, как Влемк-живописец. Научиться с полным равнодушием отвергать шутовство простых смертных! Жить во имя бессмертия! Теперь она поняла, что ошибалась. Он не сдался, не сник. Нет, просто к концу жизни он пренебрег даже гневом и презрением, даже жаждой Истины, которую испытывал в молодости. Не просто замолчал, а пошел дальше: разыгрывая чудовищную комедию, он писал с дьявольским мастерством всякий вздор — все эти пейзажи, всех этих животных, — все то, за что цепляется погибающее человечество.
В то же мгновение Влемк подался вперед, поднял как бы в знак предостережения указательный палец и сурово покачал головой. Угадал ли он ее мысли? Конечно, угадал. Он знает ее, как не знал еще никто, знает каждую нервную судорогу ее лица, каждое подергивание губ.
Шкатулки поблескивали в колеблющемся свете свеч — холодная, безучастная коллекция ужасов: чудовищные гримасы, выпученные глаза; десять бесстыдных масок разврата. И ее внезапно осенило: дело не в том, что одному из этих портретов суждено донести правду, — они все правдивы. И вовсе не потому, что он любит ее или ненавидит. Для него она — всего-навсего особь, нечто вроде крысы, которую изучает биолог, держа в обтянутой перчаткой руке. Подобным же образом Влемк мог бы поступить в отношении поэта, да и она поступила бы так же, если бы обладала его искусством. Таков этот мир, сказал он. И хватит о нем! И художник вновь обратился к прелестным садам, где растут веселые, точно крокусы, травы, где насекомые вроде горгулий на здании церкви, и они пожирают кого-то, и их самих пожирают. Таков этот мир, дети мои, мои усатые принцы и застенчиво улыбающиеся дамы. Влемк снова закрыл глаза, предоставив все живое праху времени. При мне он ни разу не упомянул тебя, сказала говорящая картина. Даже когда Влемк часами писал ее, он думал о ней не больше, чем думает биолог о лягушке, которую живьем разрезает на части. Это же Искусство. Вершина горы. Шкатулки вытеснили из памяти Королевы лицо ее умирающего отца.
Она подалась вперед и, вцепившись руками в край стола, напрягла зрение. В голове у нее мутилось, хотя она еще и не пригубила загадочного темного напитка. Она поймала себя на том, что уже довольно долго не сводит глаз с одной из шкатулок. «Завистливая Королева»— так ей вздумалось назвать этот портрет. Лицо, изображенное на нем, выглядело почти карикатурным, оно смешно съежилось, иссохло, глаза казались непомерно большими, из приоткрытого рта торчали зубы.
Влемк открыл глаза.
«Ваше здоровье», — беззвучно сказал он с убийственной усмешкой — или так показалось Королеве? — и поднял бокал.
Вскоре к ним присоединились еще двое друзей Влемка — так они, по крайней мере, представились, — и Влемк ничего не возразил, только снова закрыл глаза. Один из них утверждал, что он — бывший скрипач, другой же ничего не утверждал, он лишь бросал мимолетные взгляды на ее шею и время от времени посматривал на дверь, словно ожидая появления еще каких-то «друзей». Королева почти задыхалась. Всю жизнь она презирала все пошлое, безобразное и избегала его. Но, оказавшись в самой гуще пошлости и безобразия, она стала сомневаться в том, что была права. Раньше ей нужны были цветники без насекомых. Теперь она думала иначе. Ей хотелось лишь видеть. Но ее сознание затуманилось. Она попыталась собраться с мыслями. Пальцы ее потеряли чувствительность.
Поэт болтал какую-то чушь, и понять его было трудно.
— Предположим, — говорил он, и его лицо с желтыми полумесяцами под глазами стало наплывать на нее, — Предположим, что бог — это паук.
Она ждала; казалось, поэту больше нечего сказать. Но когда она рассеянно посмотрела на бывшего скрипача, поэт встрепенулся и, отчаянно содрогаясь, продолжал:
— Из собственных выделений прядет паук свою нить.
Он рванулся к ней, пытаясь погрозить кулаком, но ударился локтем о край стола, да так сильно, что взвыл от боли и на глазах у него выступили слезы. Бывший скрипач покачал головой и сказал:
Читать дальше