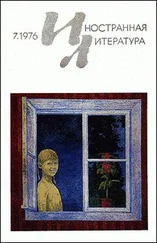Она стояла, выпрямившись, у порога, ее лицо наполовину скрывалось под капюшоном, рука в перчатке не выпускала ручку двери. У нее ныло сердце, и ей хотелось бежать. Именно теперь, когда она наблюдала эту скучную идиллию лавки художника, расписывающего шкатулки (так она называла это заведение; ей было уже неловко называть эту комнату мастерской), — приторные, как засахарившийся мед, — ее осенило, что ужасные портреты, которые Влемк писал с нее, правдивы. Пусть они ей не понравились, пусть (у нее даже задрожали колени) этот факт приводит в отчаяние, пугает ее — она знала, что те портреты были серьезным искусством, чего нельзя сказать о картинках, наполнявших сейчас комнату; она знала, что разум, который до костей прожигал ее плоть, который с холодным безразличием бога снимал с нее, слой за слоем, всякую фальшь, детский пыл, нелепое жеманство, который обнажил ее, использовал и отбросил, был возвышенным и холодным разумом художника. Ей стало горько до слез, когда она подумала, до какого плачевного состояния он дошел: художник, стоивший в пору своего расцвета всего золота Королевства, тысячи королевств, превратился, сам того не сознавая, в то, что было сейчас перед ней. Она вспомнила, как когда-то запретила бросить ему монетку, вообразив в своем безумии, что он «все равно ведь пропьет». Она невольно прикрыла глаза рукой. Этот жест не мог не привлечь внимания Влемка-живописца.
Он поспешно подошел к ней и, смущенный, зашевелил беззвучно губами, словно забыл, что лишен дара речи.
— Я должна уйти, — сказала она и открыла дверь. С улицы веяло сырым теплом, предвещавшим дождь.
С той же подчеркнутой галантностью, какой отличался ее усатый Принц, Влемк ухватился за дверь и прикрыл ее, преградив путь Королеве. Он жестикулировал и вращал глазами. Бог знает что такое он хотел сказать. Он не сводил глаз с ее траурной ленты.
— Я должна уйти, — повторила она, на этот раз более решительно.
Его лицо сделалось невозмутимым. Скорее даже — холодным, смутно напоминавшим того, прежнего Влемка. С видом человека, который убивает насекомое, не прерывая при этом начатой беседы — слегка поморщился, и снова на лице полное спокойствие, — он захлопнул дверь. Она пристально, немного испуганно посмотрела на него, стараясь угадать по его глазам, что он задумал. Он же стоял не двигаясь, странно ухмыляясь, а комната за его спиной полнилась благостным гудением — переговаривались между собой покупатели, суетились подмастерья, занятые то работой, то разговорами, — и никому не было дела до них двоих, то есть до Королевы и Влемка, далеких друг от друга, как две звезды. Она дернула за ручку двери. С таким же успехом могла бы она потянуть и за ручку каменной стены, если бы у стены была ручка. Она вперила взгляд в дверь, чувствуя, как в груди вздымается волна дикой ярости. Она готова была закричать на него, но, пересилив гнев, спросила себя: «Уж не влюблена ли я в этого толстопузого старика?»
— Я приду потом, когда ты будешь свободнее.
— Вы же шкатулки пришли смотреть, — сказал он. Она знала, что это невозможно, и тем не менее ей показалось, что он произнес эти слова вслух.
— Да.
Влемк вежливо кивнул, повернулся и пошел прочь от двери. Задержался около подмастерья, объяснил ему что-то — тот поглядел на Королеву, потом быстро перевел взгляд на Влемка, — потом, улыбаясь покупателям и осторожно обойдя стол со шкатулками, живописец прошел в угол, где лежала груда каких-то предметов, сдернул покрывало, взял с пола мешок и небрежно побросал в него одну за другой шкатулки. Вернувшись, он взял Королеву, точно ребенка, за руку, почти не глядя на нее, вывел ее из мастерской и тихо прикрыл за собой дверь. Потом, отпустив ее руку, он начал спускаться по лестнице. Королева шла следом.
Как это ни странно, Королева не знала, как выглядит помещение кабака. Но она вошла туда с напускной уверенностью слепца, притворяющегося, что не нуждается в посторонней помощи, — она шла решительно, держалась прямо и как будто с нетерпением ждала, когда Влемк выберет столик, хотя, в сущности, понятия не имела о том, прилично или неприлично даме сидеть с мужчиной в таком заведении. Все здесь было так ново и загадочно, что она была не в состоянии о чем-либо думать, а только смотрела и смотрела, жадно впитывая увиденное широко открытыми глазами ребенка, — и тут вдруг вспомнила себя четырех- пятилетней девочкой, когда все вещи представлялись ей живыми, неестественно контрастными; вспомнила, как ездила с отцом на ярмарку, как окружавшие их слуги зорко и испуганно высматривали анархистов, ее отец был тогда еще крепкий и рослый, почти грузный человек, он радостными криками приветствовал своих подданных и пожимал руки тем, до кого удавалось дотянуться через плечи стражей.
Читать дальше