– Мам, да мы не шлялись, мы к отцу Сергию ходили, ему помочь надо было, – пролепетала Ленка. – Он нам подарки за это дал.
Комарова про себя удивилась, как это Ленке всегда удается так с ходу врать. Сколько она помнила, младшая сестра, набедокурив, всегда выворачивалась до последнего, как рыба, которую пытаешься ухватить голыми руками на мелководье.
– А мне, значит, помогать не нужно! Не нужно, по-твоему?!
Комарова сжалась: теперь мать их точно прибьет.
– Мне помогать не нужно, это всему поселку нужно помогать, а мне вот – не нужно! Вы идите, еще кому-нибудь помогите, до родной матери вам дела нет, шляются до ночи! Стирай, убирай для них! Корми их! Сволочи!
Не удалось, значит, Ленке с ее враньем на этот раз проскочить… хотя по большей части никогда не получалось, но Ленка все равно врала: на авось, оглашенно, только бы не получить лишний раз по жопе, но иногда, пойманная на своем вранье, получала и лишний раз, и еще сверх того, и все равно ничему не училась.
Лицо Натальи покривилось, из глаз брызнули слезы. Зачем, зачем только она их столько нарожала, зачем когда-то связалась с пропойцей Мишкой, который был много лет назад первым парнем на деревне, таким высоким, красивым, всегда с улыбкой на лице: Ленка, когда улыбалась, была на него очень похожа, и каждый раз Наталье вспоминалось, как Мишка стоял на бетонной платформе, дожидаясь ее электрички, а увидев ее в мутном окошке, махал ей рукой и вот точно так же улыбался. И она ради этой его улыбки бросила все: и дом, и второй курс института, где училась на искусствоведа, и уехала жить в поселок, чтобы устроиться здесь швеей третьего разряда и изо дня в день прострачивать наволочки, пододеяльники и простыни на швейной машинке фирмы «Зульцер». Вокруг менялось время, деньги обрастали бесконечными нолями и теряли ценность, в новостях твердили про дефолт, закрылся, не выдержав кризиса, завод металлоизделий, открывались и тотчас закрывались новые магазинчики и киоски, а постельному белью ничего не делалось, как будто именно на него люди тратили свои последние рубли. Километры ткани, проходившие через Натальины руки, были расписаны затейливыми разноцветными узорами вроде тех, которые на досуге местный священник малевал на наличниках дверей и окон в своем доме, и Наталья, делая очередную ровную строчку, тоскливо думала, что могла бы сама покупать в городе эти наволочки, пододеяльники и простыни и застилать ими собственную чистенькую постель в светлой и просторной городской квартире. Еще она думала о том, что все эти листики и завитушки, отпечатанные на большом заводском шаблоне, не идут ни в какое сравнение с вышивками, которые делает попадья Татьяна, и что ее, Натальина, жизнь безнадежно испорчена, как кусок ткани, попавший под сломанную швейную иглу.
– Так где шлялись до темени, я вас спрашиваю? – повторила Наталья.
Комарова подумала, что, если быстро добежать до двери и выскочить во двор, мать, может быть, их и правда не поймает, но убежать казалось почему-то страшнее, чем остаться. Олеся Иванна как-то попеняла Наталье на то, что та лупит почем зря своих детей, а когда Наталья огрызнулась, обозвав Олесю раскрашенной бэ, к которой таскаются все мужики в поселке, и ее Мишка бы таскался, если бы всё на свете не пропил, Олеся бросила ей в лицо «ведьму», и они чуть не подрались, но люди их разняли и увели плачущую Наталью на улицу. Сейчас мать и правда была похожа на ведьму: худющая, растрепанная, в старом замызганном сарафане, стоящая, растопырив руки и сотрясаясь в рыданиях, посреди захламленного коридора.
– Сволочи! Им на родную мать плевать, им чужие люди дороже родной матери! Ну, что вы молчите обе?! Отвечайте!
– Мам, только не бей… – шепотом сказала Комарова. – Не бей, пожалуйста…
Наталья подскочила к ней и с размаху больно хлестнула по лицу ладонью. Ленка отпрянула в сторону, прижалась к стене и попыталась закрыться руками, но мать вцепилась ей и Комаровой в волосы и принялась таскать их по всей прихожей, ругая сволочами и проститутками.
– Мама, не бей! – Ленка пыталась вырваться и забиться в угол, где кучей была свалена старая обувь и газеты. – Мама, больно!
Была бы жива бабка, она бы их защитила: она всегда их защищала, а потом еще утешала мать, – изругав детей, та всегда бежала на кухню, садилась за стол, подперев лоб ладонями, так что видны были только спутанные светлые волосы, из-под которых раздавались прерывистые глухие всхлипы. Бабка пододвигала стул, подсаживалась рядом, гладила мать по вздрагивавшей от рыданий худой спине и монотонно повторяла: «Ничего, доча, все пройдет, ты поплачь, поплачь, все, доча, проходит, это ничего, ты терпи, ты плачь, слезы лечат, все проходит, и это пройдет». Мать молча всхлипывала, трясла головой, иногда только начинала выговаривать бабке, что та ничего не понимает, что в городе у нее могло быть все, карьера могла быть, нормальная семья, а здесь ничего никогда не будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анаит Григорян Поселок на реке Оредеж [litres] обложка книги](/books/392755/anait-grigoryan-poselok-na-reke-oredezh-litres-cover.webp)
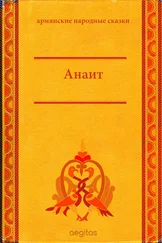



![Михаил Баковец - Крепость на реке [litres]](/books/393796/mihail-bakovec-krepost-na-reke-litres-thumb.webp)
![Александр Забусов - Войти в ту же реку [= Перевёртыш] [litres]](/books/411166/aleksandr-zabusov-vojti-v-tu-zhe-reku-perevertysh-thumb.webp)
![Крейг Оулсен - Обратный процесс. Реки крови [litres самиздат]](/books/436944/krejg-oulsen-obratnyj-process-reki-krovi-litres-thumb.webp)


