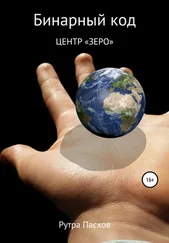Во время фуршета, устроенного после концерта, Брюно сиял, он был на седьмом небе от счастья. Умудренные опытом мужи восторгались его ювелирной техникой ритмического взаимодействия и динамическими вибрациями великолепного музыкального произведения. Он едва успевал отзываться на комплименты, что сыпались на него со всех сторон. Он представил Ноно свою сопрано, до небес превознося ее талант. Рукой он слегка обнимал ее за плечи. И я снова не могла оторвать взгляд от этой руки. Я с пронзительной нежностью вспомнила вдруг о теплоте его рук. Я подумала, что если его рука коснется моей вот теперь, прямо сейчас, а не будет скользить по плечу сопрано, я почувствую ее трепет до самой глубины своей души, и мы вновь будем любить друг друга, как тогда, в летние дни наших первых встреч. Но его рука оставалась вдали от меня. Я вспоминала, как Брюно возвращался домой за полночь, проводя все вечера в своей студии. Я представляла, как он репетирует с этой женщиной в полумраке пустой комнаты. Бокал дрожит у меня в руках. Шампанское льется на мое платье. Мир шатается подо мной. И я решаю сию же минуту вернуться домой.
Сопрано с нами не едет. Она осталась на прослушивание в Ла Скала. Мы молча сидим в своем купе. Закрыв глаза, Брюно блаженно улыбается своим мыслям о первой славе, которая наконец пришла к нему. Я сижу напротив и кожей чувствую, как между нами медленно растет пропасть по мере того, как поезд отдаляет нас от Милана. Зачем он пригласил меня поехать туда? Чтобы я присутствовала при его оглушительном триумфе? Если он сейчас не откроет глаз, я выйду на ближайшей станции и навсегда исчезну из его жизни. Поезд идет сквозь Альпы. Когда он выныривает из туннеля, я ловлю на себе пристальный взгляд Брюно. Он наклоняется ко мне, кладет руку мне на колено и наконец нарушает молчание, давившее на нас с самого отъезда. «Создав это Рондо, я выразил всю свою любовь к тебе. Я не пиявка и не сосал твою кровь. У меня нет никакого права на твои мысли и чувства. И я прошу у тебя прощания, если перегнул палку. Я понимаю, что есть еще что-то, кроме этой магнитофонной записи. Что именно… не могу сказать, но что-то есть… и это известно лишь тебе одной. Это Рондо — лучшее, что я сочинил и что, пожалуй, создам в будущем. Мое творчество, моя музыка питалась самым искренним порывом: узнать как можно ближе того незнакомца, который живет в твоем мире. Эти чувства раскрыли мой талант, окрылили меня, придали мне смелость, о которой ты даже не подозреваешь. А теперь выслушай меня внимательно. Я обговорил с Ноно все детали моей работы в Милане. И я хочу, чтобы мы с тобой поехали туда вместе. Ты согласна?»
Он говорил и говорил без остановки, а я следила за тем, как его губы дергаются в привычной болезненной гримасе, словно слетающие с них слова доставляют ему невыносимую боль. Злость душила меня, он ставит меня перед фактом, я должна принимать решение, а он чистенький такой, невинный ангелочек. К чему продолжать жить вместе, если ничто не держит нас? Он что, ничего не видит? Может, он к тому же еще хочет меня сделать виновной в расставании? Я ушла от ответа, перейдя в нападение: «Ты изменяешь мне со своей сопрано. — Я просто работаю с ней», — отвечает он, но слишком быстро, словно ждал этого вопроса, для меня все понятно, я попала в самую точку. «Я точно знаю, ты изменяешь мне с ней, это видно по твоим глазам». Он убрал руку с моего колена. Конечно, пошло было с моей стороны использовать в нашем споре эту бедную польку, я понимала это, но хваталась за нее, как тонущий хватается за последнюю соломинку. «Что ты решила? Ты едешь со мною? — Тебе мало одной, двух сразу захотел, так? — Лаура!..» Его губы дрожали, лицо стало противным до неузнаваемости. «Мне не нравится это. Я никуда не поеду. — Ладно, больше не будем об этом». Он закрыл глаза и погрузился в себя.
Боже мой, сделай так, чтобы он заговорил, пусть поговорит со мной, и я смогу взять свои слова обратно. Но он молчит. Он молчит до самого Парижа, до Лионского вокзала, до набережной Жеммап, до нашего расставания.
Я сидела и смотрела, как он приходит и уходит. Как он бегает по квартире, собирая вещи. Он носился, как на крыльях, а меня все сильнее и сильнее тянуло на дно. Он брал уроки итальянского, утрясал свои дела, покупал научные книги по лингвистике и фонологии. А я отрешенно сидела, уставившись в одну точку, и не могла пошевелить даже пальцем. Диссертацию свою я забросила, у меня не было сил открыть книгу. Часами я валялась в кровати, ночь для меня длилась круглые сутки, и при этом я все равно чувствовала себя разбитой. Цурукава, похоже, тоже подустал. Он тихонько, едва слышно, жужжал надо мной, укрывая меня мягким воздушным одеялом. Его монотонный приглушенный гул стал для меня в те дни убаюкивающей колыбелью.
Читать дальше

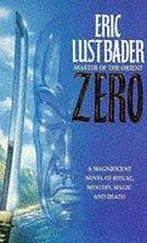




![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)
![Питер Уоттс - Огнепад - Ложная слепота. Зеро. Боги насекомых. Полковник. Эхопраксия [сборник litres]](/books/407808/piter-uotts-ognepad-lozhnaya-slepota-zero-bogi-na-thumb.webp)