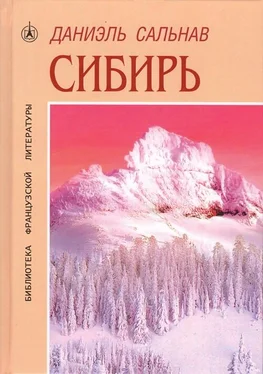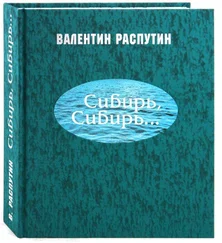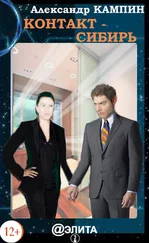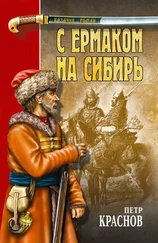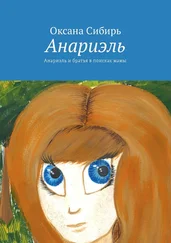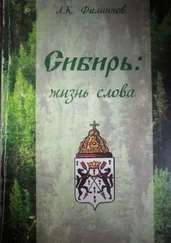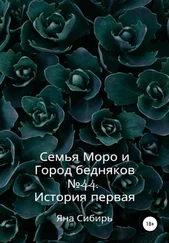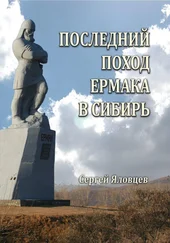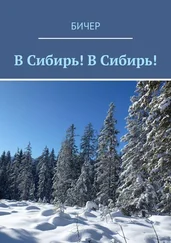Здесь, на сибирской земле, казаки повсюду. Это слово символизирует само покорение и российское присутствие на этих землях… Но слова — весомый символ… Или это отпечаток со времен холодной войны и созданный ими чрезвычайно отрицательный образ СССР? Но это слово не вызывает во мне положительных эмоций. Может, это также из-за национальной памяти о кампании 1812 года и их лошадях, пьющих из фонтана на Елисейских полях? Один любопытный документ, обнаруженный в интернете, описывает, как в 1814 году казаки под командованием графа Чернышева, в 1812 году полномочного представителя Александра I при Наполеоне, столкнулись под Орлеаном с французскими кирасирами. В 1880 году Антуан-Жуль Дюмесниль, «сенатор и вице-президент Генеральной ассамблеи департамента Луаре», публикует статью в Pithiviers («Слоеный пирожок») под названием «Казаки в Гатинé в 1814 году». Он написал длинную поэму, продиктовав ее мадам Минен в возрасте 82 лет. «Вот она, песня войны», — пишет он, воодушевленный скорее богом Марсом, чем Аполлоном и музами. Я процитирую только одно четверостишие, посвященное сражению при Эйлау: «И эти „славные“ казаки, / Боясь оказаться в плену, / Кричали друг другу: „Давайте отступим, / Сейчас кирасиры придут“».
Казак, казак, казах: слова похожие, этимология пересекается, еще одно маленькое зернышко для пищи фантазии…
…А вообще, я плохо знаю историю. Я говорю себе это, стоя на платформе вокзала Красного Яра, откладывая на возвращение, уже в который раз, внести ясность в этот вопрос. Кто такие казаки? Их история будет долгой и захватывающей. Наемники из-под Киева, их разделяют на несколько групп: украинские казаки, которые, в свою очередь, делятся на зарегистрированных (записанных) и запорожских (за днепровскими порогами), и донские казаки… Это благодаря им веками после их подчинения центральной власти осуществлялась безопасность южных и восточных границ: от Кавказа и до Урала, русское присутствие и русский порядок. Во время второй чеченской войны в интервью международной прессе в 1997 году Юрий Чуреков в черной традиционной казацкой форме атамана об этом сказал: «Мы давно умеем наводить порядок на Северном Кавказе». И в заключение: «Нужно посылать в Чечню не российские формирования, а только казаков, настоящих профессионалов». Комментарии излишни…
Усмиренная дорога, которой мы направляемся во Владивосток, не всегда была такой. И намеки на это туристического ритуала совершенно непонятны неискушенному в глубинах истории… Это, однако, повод вернуться к Ермаку, которого я уже несколько раз кратко упоминала. В XVI веке, пишет Ярослав Лебединский в уже упомянутой статье, «казаки под предводительством славного Ермака в отместку предпринимают в 1582 году поход, оплаченный уральскими купцами-московитами, по покорению Сибири». Они захватывают Сибирь и вручают ее царю Ивану Грозному. «Они являются передовым ударным отрядом российской колонизации региона».
Казаки вовсе не мирные люди, и они не отнюдь не прекращают бунтовать до тех пор, пока Петр Великий не подчиняет их своей власти. Последние большие казацкие бунты, такие как восстание Пугачева на Урале в 1772–1774 годы, были безжалостно подавлены. «Казаки превращаются в военное сословие, члены которого за различные привилегии и ограниченную внутреннюю автономию должны были нести долгую военную службу, в основном в легкой кавалерии. Их нещадно использовали в войнах, и известно, какие жгучие и мучительные воспоминания оставили они у французских захватчиков в 1812 году!» (Ярослав Лебединский).
Подчиняющиеся центральной власти и тем не менее часто непокорные, приверженные своему образу жизни, своей «воинской демократии», своему диалекту, после 1917 года они смешались с Белой армией, несмотря на то что некоторая часть перешла на сторону красных, и затем были репрессированы Сталиным. В 1941 году некоторые примкнули к немецкой армии. Во времена расцвета Коммунистической партии Франции считалось плохим тоном слушать «Калинку» в исполнении хора донских казаков и хорошими тоном — в исполнении хора Красной армии… Не удивительно, что после 1991 года они захотели возродить свою культуру и традиции. Все это история, живая, обжигающая, часто непостижимая: «Наше прошлое непредсказуемо», — говорится в одной советской шутке. И это также верно, его нужно без конца переписывать и без конца пересматривать свои собственные суждения.
12 часов. Гостиница «Октябрьская». (Октябрь у русских как число 89 у французов, эквивалент революции). Прекрасная гостиница, как и в целом, весь город, создающий впечатление процветающего. Повсюду ухоженные лужайки, обрамленные каменным бордюром. Молодые деревца, терновник, вишня, акация — все уже расцвело. Перед нами здание двадцатых годов, дворец правосудия (попросту суд) Красноярского края и статуя в стиле ар-деко, тоже правосудие с весами в руках. Окружена фонтаном с короткими струйками воды. Все эти украшательства стали возможными благодаря Петру Пимачеву, мэру города, избранному в 1996 году. Это то, что вместе с прекрасными площадями и маленькими кафешками вдохновило корреспондента «Вашингтон Пост» написать, что уличная жизнь «кажется более итальянской, чем русской». Исторический центр повсюду отреставрирован, и некоторые даже упрекают мэра за излишнее его обновление в ущерб старым деревянным домам…
Читать дальше