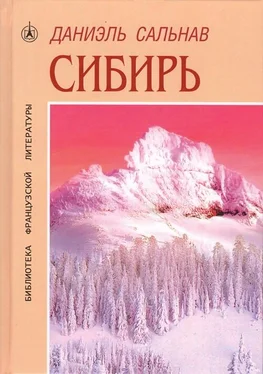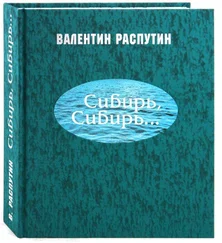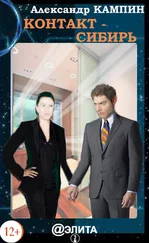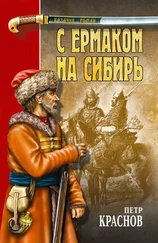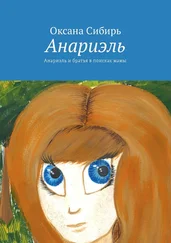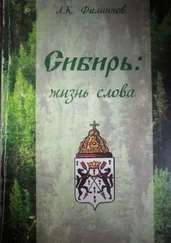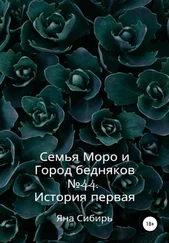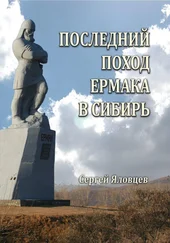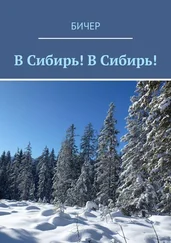Сибирь, говорят русские, это наша Австралия: каторжники и поселенцы. И как в США или Австралии, так и в Сибири есть то, что нужно называть культурным геноцидом. Коренные народы, туземцы и аборигены были согнаны, уничтожены или исчезли под тяжестью совершенно другого образа жизни.
…Наша программа, как обычно, чрезвычайно насыщенна, и не только по времени: множество визитов в день, многочисленные встречи, пресс-конференция, посещение школ, но и грандиозностью возникающих вопросов. Но возможно, еще больше эмоциями, вызываемыми воображением. В России все вас волнует чрезвычайно. Предполагается, что сегодня мы посетим одну из достопримечательностей советского периода: деревню ученых Академгородок, совершенно искусственное творение в глубине леса в тридцати километрах от Новосибирска. Но сначала нам хотят показать Железнодорожный музей. Это меня чрезвычайно радует, у меня страсть к поездам. Больше всего мне нравится путешествовать в вагоне (я комфортно себя ощущаю в Транссибирском экспрессе). Но к физическому удовольствию этого путешествия примешивается и другое, более тайное: поезд для меня — это живой символ того государственного устройства, которое я люблю, — Республики. Вместе со школой. Это именно они вывели из изоляции, как говорят сегодня, провинции Франции. Эту идею я формулирую впервые, но она во мне уже давно, я нашла подтверждение ей в книге Франсуазы Лорсери «Школа и этнический вызов: образование и интеграция».
Именно с железной дорогой, школой и воинской повинностью происходит в начале Третьей республики то, что Эжен Вебер называет «концом провинциализма»: национальное единство и национальное самосознание. Многие люди это смутно чувствуют со щемящим сердцем, когда больше не пользуются железнодорожным путем, когда закрывают школу: что-то от республиканской идеи теряется. Это то, что случилось, когда отменили военную службу, а школа превратилась в неопределенную «педагогическую услугу». Желание стать железнодорожным служащим или учителем не имело целью, как сейчас пренебрежительно говорят, обретение «обеспеченности и стабильной пенсии», а значило участие в прогрессе. Прогресс как следствие образования и экономического развития. То же самое было в и России. С тем же самым двойным смыслом. К тому же была чудесная техника, которая развивалась вместе с железной дорогой. Кто из детей страстно не любил паровозы!.. А воспоминания о движении сопротивления, о «рельсовой войне»…
Музей поездов растянулся на многие гектары на железнодорожных путях, по которым они больше никогда уже не поедут. Локомотивы разных эпох, перекрашенные в их оригинальные цвета: черный, ярко-красный, зеленый, часто отмеченные впереди красной звездой… Также и вагоны, начиная с самых старых и неудобных до роскошных апартаментов с велюровыми и шелковыми скамейками (но в них еще не было туалетов, как, впрочем, и отопления). Как везде, где есть техника и история, возникает много эмоций. В музейной витрине медали воинов Великой Отечественной войны. Я не могу не назвать здесь их имен: Николаев Василий Борисович, Трубников Иван Ефимович.
И опять на других перронах локомотивы разных лет, целые поезда с вагонами, надписями об их маршрутах. Между ними очень чистые широкие платформы. Слишком толстый слой краски придает им, как и старым кораблям, что-то вроде искусственной молодости. Но большая красная звезда, которая сияет впереди каждого паровоза, сохранила мистическую власть. Мирные, окончательно умолкшие, будто бы в витрине специализированного магазина модели больших, немного напыщенных игрушек в натуральную величину. Многие молодые пары приходят сфотографироваться перед ними или в салонах первых классов, украшенных тканями и занавесками…

Самое ценное, что я сохранила: пилотка из газеты, которую сделала по моей просьбе одна рабочая несколькими быстрыми и умелыми движениями. Я ее сфотографировала в зеркале нашего вагона. Я хотела подарить эту пилотку моему дяде, который водит локомотивы всю свою жизнь, сначала на угле, а затем на электротяге. Я много о нем думала в тот день, о его добром лице, его чувстве юмора, рабочей походке, лукавых анекдотах, о его желании петь.
Затем мы поехали в Академгородок. В момент, когда перед тобой предстает действительность, которая для тебя пока только мифическое название, убеждаешься в парадоксальности путешествий: то, что видишь своими глазами, не может заменить никакое чтение, и всегда в недостаточной степени пользуешься возможностью увидеть… Несмотря на добрую волю и компетентность наших гидов, всего, что удастся увидеть, будет недостаточно. И это неизбежно. Нужно было до отъезда работать с книгами и документацией… Но я также знаю и следующее: то, что меня тревожит во время путешествия, ничуть не омрачая ощущения полного счастья, найдет свое решение спустя несколько месяцев.
Читать дальше