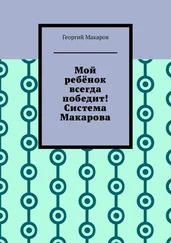Не раз, не два сжигала облигации и я. Садилась возле открытой печи, доставала облигации из мешка и почти всю ночь смотрела на языки пламени. Рядом, в соседней комнате, спали трое голодных детей и старушка-мама.
Сижу, смотрю на огонь и вижу в языках пламени наши горящие города и села, наших идущих сквозь огонь бойцов и самого любимого из них – своего мужа…
Закончу – переворошу пепел кочергой, и все.
Подписи членов комиссии в акте об уничтожении облигаций обычно ставились заранее, сразу после окончания обхода.
Утром я уносила акт председателю комиссии.
И вот что показательно. Уже через много-много лет после войны, когда мы стали жить вполне сносно – вдосталь наелись хлеба, оделись, обулись, – мне вдруг пришла в голову грешная мысль: а ведь любой из нас, членов комиссии, мог сколько угодно облигаций при таком их сжигании утаить, спрятать, короче говоря – украсть, а потом, имея их большое количество, при очередном розыгрыше получить столько денег, сколько бы хватило, чтобы не знать, что такое голод и холод, сытно кормить своих детей и стариков-родителей…
Нет, не крали…
И даже не думали о том, что можно красть…
Была война. Был страшный, сильный, жестокий враг, и мы победили его не только пулями, снарядами, штыками – чистотой своих душ. Может, это сегодня и громко звучит, но только так – и чистотой своих душ…
В январе 1943-го я сильно простудилась и заболела. Мы – я, мои старики-родители и малолетняя дочка – жили в рабочем поселке рядом с областным центром. Я работала на прокладке железнодорожной ветки от главной магистрали к резервной нефтебазе. Работа была очень тяжелой. Наша бригада из пятнадцати женщин копала землю, переносила и укладывала шпалы, разгружала машины.
За свою работу мы получали скудные пайки. В паек обычно входили пара банок рыбных консервов, плитка жмыха, бутылка растительного масла и две-три булки черного, остистого, ноздреватого клейкого хлеба.
Пайки выдавали раз в две недели. При всем при том по сравнению со многими соседями мы жили «зажиточно». От голода в обморок не падали. Прошлогоднюю картошку на чужих огородах не искали.
С ранней весны и до самого ледостава больной, изможденный сорокалетним шахтерским трудом папа целые дни проводил на большом озере, на берегу которого находился наш поселок.
Папа ловил рыбу. Иногда ему удавалось выудить с десяток приличных карасей, и тогда мы чувствовали себя вообще богачами. Мама летом собирала на берегу озера разные съедобные корешки и травки, которые она называла «приварком». Жили мы в большом многоквартирном доме на втором этаже, и огорода у нас не было. Однажды мама попыталась посадить капусту на маленькой грядке-клумбе между хозяйственными постройками. Но стоило появиться первым листикам, их с корешками выдрали голодные ребятишки.
Зимой нам без папиных уловов и маминых приварков жилось труднее, но мы, как сегодня говорят, держались на плаву.
И вот я заболела. Папа сходил в поселковую больницу, уговорил знакомого врача – славную, отзывчивую женщину – прийти к нам и осмотреть меня.
Валентина Дмитриевна, так звали врача, наверное, целый час осматривала, прослушивала меня и сделала неутешительный вывод: воспаление легких, общее ослабление организма из-за постоянного недоедания и тяжелой работы, признаки ревматизма…
Она выписала мне кое-какие лекарства и назвала главное из них – хорошее, полноценное питание. Это главное лекарство назвала тихим голосом, не глядя на маму, папу и дочку, словно стесняясь и меня, и их. Ведь и сама Валентина Дмитриевна, худенькая, бледная, сутулая, хотя и совсем молодая женщина, явно нуждалась в хорошем, полноценном питании…
Мама, папа и дочка чуть не насильно кормили меня супом из рыбных консервов, заправленным для сытости кусочками хлеба и обильно сдобренным растительным маслом. Я понимала, что они отдают мне последнее, что они наверняка из-за стремления обеспечить меня «хорошим, полноценным» питанием недоедают сами. Но я, хотя мне и не хотелось есть, ела все, что мне давали, и старалась есть как можно больше. Даже в горячке, в полубреду я понимала: не встану, умру – умрут они, умрут страшной смертью от голода и холода, как умерли уже некоторые жители нашего поселка.
Прошло дней пять-шесть, и «хорошее, полноценное» питание, а вместе с ним и мое непреклонное стремление во что бы то ни стало вырваться из лап болезни и смерти сделали свое дело – я почувствовала себя лучше. У меня появился настоящий аппетит и даже возникло острое, навязчивое желание, одно из тех, какие иногда появляются у выздоравливающих людей, – я мучительно захотела горячего молока, настоящего, полноценного, свежего горячего молока. Мне стало казаться, что, как только я выпью стакан горячего молока, болезнь окончательно отступит и я моментально стану здоровой и сильной.
Читать дальше
![Борис Макаров Знамя Победы [litres] обложка книги](/books/390952/boris-makarov-znamya-pobedy-litres-cover.webp)

![Борис Батыршин - Чужая сила [СИ litres]](/books/390929/boris-batyrshin-chuzhaya-sila-si-litres-thumb.webp)
![Борис Руденко - Очень холодно [сборник litres]](/books/397739/boris-rudenko-ochen-holodno-sbornik-litres-thumb.webp)
![Кэндис Кумай - Кинцуги [Японское искусство превращать неудачи в победы] [litres]](/books/407120/kendis-kumaj-kincugi-yaponskoe-iskusstvo-prevrachat-thumb.webp)
![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/408418/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres-thumb.webp)
![Борис Батыршин - День, который не изменить [litres]](/books/415040/boris-batyrshin-den-kotoryj-ne-izmenit-litres-thumb.webp)
![Борис Акунин - Князь Клюква [litres]](/books/416186/boris-akunin-knyaz-klyukva-litres-thumb.webp)
![Борис Виан - Пена дней [litres]](/books/429568/boris-vian-pena-dnej-litres-thumb.webp)
![Борис Конофальский - Нечто из Рютте [litres]](/books/431809/boris-konofalskij-nechto-iz-ryutte-litres-thumb.webp)