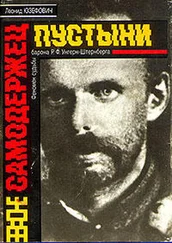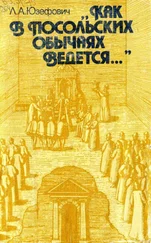А теперь всё переменилось.
Осенью еще, в самые грязи, приезжал ко мне майор Чихачев с поручиком Перевозчиковым и двумя горными солдатами, но я тогда не поняла, для чего. В дому всё обыскали, в стайку ходили, в подпол лазили, в старой и новой бане смотрели, – а что ищут, не сказали. Спросила, так ответ был, что меня не касается. О смерти вашей я тогда не знала и решила, что хотят найти против вас какую-то улику, вещь или бумагу, про которую Чихачев думает, будто вы ее у меня в дому или на дворе спрятали.
А сегодня один приехал, без солдат. Велел Феденьку с бабкой удалить, дверь за ними закрыл, крючок накинул.
“Жаль мне тебя, – говорит. – Хочу тебе что-то сказать”.
Я его пригласила присесть к столу, но он не захотел. Снял с божницы образ Пречистыя Богородицы и приказал целовать его на том, что никому не скажу, что он сейчас мне скажет.
Сам хмурится – а у меня на сердце вдруг весело стало, как в мои молодые годы. Беру икону и улыбаюсь.
Чихачев, как в Перми, когда мы с ним с гауптвахты выходили, спрашивает: “Чему радуешься?”
“Вас, доброго человека, видеть”, – отвечаю.
Повторила за ним его слова, приложилась к иконе, поставила ее на место и стою, жду.
Он говорит: “Не умер твой Григорий Максимович”.
Я, словно того и ожидала, не удивилась нисколько.
Говорю: “И где он?”
“Не знаю”, – отвечает.
“Кто ж знает?” – спрашиваю.
А он: “Если ты не знаешь, то никто”.
Тут только я поняла, зачем он осенью с солдатами приезжал, кого искали. Он и те, кто над ним, устрашились наказания, что вас не устерегли, ну и донесли начальству, будто вы померли.
Чихачев меня о чем-то спросил, я вижу – губы у него шевелятся, а о чем говорит, не слышу ни слова. Сердце в ушах молотом бухает, в голове одно: не приведи господи, найдут они вас. Что эти ироды с вами сотворят, если поймают, куда загонят, чтобы их обман не раскрылся, боюсь и подумать. Вижу, вы спите, а медвежья лапа из огня вылезла и ползет вам к горлу.
Как вышло, что вы пропали, Чихачев не сказал, а я с расспросами к нему не полезла. И так-то открыл мне, чего по службе открывать не должен, – на что его смущать?
Крест перед ним поцеловала, что знать не знаю, где вы есть, и молчу. Он без меня Феденьку с бабкой порасспрашивал, думая у них насчет вас что-нибудь выведать, но ничего не узнал, простился со мной, сел в сани, полость набросил и укатил.
Я на иконе присягнула, что никому не скажу, о чем он мне сказал, но и без того не проговорилась бы даже родной матери. В молчании, как на леднике, всё сохраняется без порчи, а сболтнешь хоть кому – и начнет подгнивать. Заглянешь потом себе в душу – и той радости, что в ней была, нету.
Феденька с бабкой уснули, я оделась, вышла в огород. Темно, тихо, лишь мороз трещит. Мысль о вас во мне толкается, как дитя во чреве, греет на морозе. Небо в звездах, и у меня в душе звездочка мерцает. Надеждой себя не распаляю, понимаю, что ждать особо нечего – письма́ не пришлете, чтобы его на почте не переняли и не прознали, где вы прячетесь, а что когда-нибудь, пусть не скоро, с верным человеком известите о себе и позовете нас с Феденькой к вам ехать, в это мало верю. Путь сюда вам заказан, но и постоять так, помечтать, как соскучитесь обо мне и приедете хоть одну ночь со мной переночевать, – тоже утешение. Вы, думаю, и в темноте улицей идти побоитесь, чтобы собаки не забрехали, зайдете с огорода. Тут-то я вас и встречу.
Майор Борис Чихачев . Памятные записи
Февраль 1825 г
9 февраля, возле пяти часов утра, с шестью нижними чинами, умеющими держаться в седле, поручиком Перевозчиковым и проводником я выехал с места нашей последней ночевки в направлении озера Увильды. Ехать предстояло около двадцати верст. Мы с Перевозчиковым были вооружены пистолетами, а пятеро из шести солдат – ружьями. Оружия не имел один Ажауров, мосцепановский дружок и благодетель. Из-за полной непригодности к военной службе я сделал его своим денщиком.
Донесение о скрывающемся в этих краях неизвестном бродяге поступило на прошлой неделе. Сообщалось, что он, выходя из лесу к местным кержакам за крупой, мукой и охотничьим припасом, расплачивается с ними не деньгами и не беличьими шкурками, а берестяными квитками с оттиснутой на них печатью в виде овала с буквами Г и М внутри. За эти филькины грамоты кержаки снабжают его провиантом и порохом. Он им головы задурил, будто ассигнаций скоро в ходу не будет, все будут свезены в одно место и сожжены, а медь и серебро станут выдавать в обмен на такие вот бересты. Якобы государь тайно в старую веру перешел – это из того видно, что никониане упрашивают его встать за греков против турок, а он не хочет. “Научили, – говорит, – собаку Никона порушить на Руси благочестие, пусть же наказаны будут через султана!”
Читать дальше
![Леонид Юзефович Филэллин [litres] обложка книги](/books/390245/leonid-yuzefovich-filellin-litres-cover.webp)