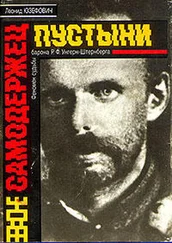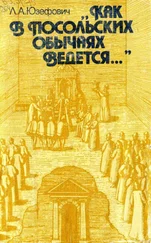Оцепенев, я ждал залпа, но услышал, как кто-то по-французски выкликает мое имя: “Фабье! Полковник Фабье, отзовитесь! Я знаю, что вы здесь!”
“Молчи! – шепнул Чекеи. – Отзовешься, они тебя прикончат и возьмутся за нас”.
По его знаку сулиоты заслонили меня собой. Я раздвинул двоих ближайших и шагнул навстречу судьбе. Она явилась мне в образе невысокого широкогрудого человека в фуражке и простом военном сюртуке без эполет. В том же аскетичном костюме, какой может позволить себе обладатель абсолютной, не нуждающейся ни в каких подтверждениях власти, он стоял на причаленной к берегу галере в канун Ураза-байрам, но теперь расстояние между нами было гораздо меньше. Уже достаточно рассвело, чтобы я мог разглядеть его лицо. В нем читались ум и энергия, но то и другое было припорошено чем-то третьим, чему я не умел найти имени и что не позволяло приложить к нему наши привычные представления о связи внешности и характера. Вместе с тем это было заурядное лицо греческого простолюдина, кем он, собственно, и являлся. Сейчас, копаясь в моих тогдашних ощущениях, я думаю, что в нем отталкивала печать грубой воли и привлекала нечастая у сорокалетних мужчин юношеская тонкость черт.
“Я здесь!” – громко сказал я.
Мне ответил ровный, невыразительный голос человека, не озабоченного тем, чтобы интонацией усилить значение сказанного. У наследного принца в этом нет нужды.
Безупречная французская речь полилась из его уст, но под дулами ружей я не сразу сумел в нее вслушаться – мешала мысль, что, как только он замолчит, я умру.
Усилием воли я вернул себе самообладание и понял, что Ибрагим-паша начал с комплиментов моей храбрости и моим моральным принципам. В его похвалах не было ни грана бутафорской восточной пышности, зато содержались точные сведения обо мне. Он явно не вчера узнал о моем существовании. Должно быть, наводил справки, интересуясь мной, как я – им.
Еще раньше сулиоты, Цикурис, Мосцепанов и вынесенные в первую линию филэллины взяли его на прицел, как египтяне – меня. Каждый из нас двоих стал гарантом жизни другого. Страшное напряжение владело мной, но я уже понимал, что немедленная гибель мне не грозит.
Спиной я ощущал смятение солдат, быстро сообразивших, с каким врагом мы столкнулись. Имя их предводителя тревожным шепотом пронеслось по рядам, но в конечном итоге произвело не то действие, которого мы с Чекеи боялись. Не оглядываясь, я чувствовал, как мои люди вновь становятся единым целым. Полк опять верил мне, надеялся на меня и ждал моего слова.
От моих достоинств Ибрагим-паша перешел к моим политическим взглядам. Пара общих фраз – и прозвучала цитата из Руссо. Я не поверил своим ушам, и, хотя почти сразу вспомнил, что Жан-Жак был кумиром юного Ибрагима, ученика военной школы в Париже, цитата из него была как звук лютни в пыточной камере, как розовый куст на скотобойне.
В первобытном состоянии, передал его мысль Ибрагим-паша, люди живут страстями, но с появлением государств научаются подчинять страсти разуму. То непомерное значение, которое греки придают национальному чувству, превращая его в необузданную страсть, доказывает, что они возвращаются в состояние дикости. Должен ли разумный человек их в этом поощрять?
Вопрос был не риторический, Ибрагим-паша ждал ответа, но я не хотел дискутировать с ним на такую тему в такой обстановке. Его аргументы заведомо были весомее, чем мои. У него три пехотных батальона, две с лишним тысячи бойцов, у меня – вшестеро меньше, и даже если мы откроем огонь первыми, это ничего не изменит. После залпа наткнемся на штыки. У нас ружья без штыков, а сабли, в лучшем случае, у каждого третьего, да и где гарантия, что при атаке за мной пойдет весь полк? Что половина не бросится врассыпную по кустам? За эти минуты никакого плана действия у меня не созрело, я лишь малодушно оттягивал неизбежное.
“Продолжайте”, – крикнул я.
Ибрагим-паша что-то скомандовал по-арабски. Послышался дробный стук прикладов о камень – его солдаты взяли ружья к ноге. Это был не столько знак доверия ко мне, как демонстрация его превосходства. Он, конечно, рассчитывал на аналогичную любезность с моей стороны, но я такой команды не отдал. Направленные на меня ружья обратились дулами вверх, а нацеленные на него остались в прежней позиции.
Я приготовился скомандовать “Огонь!”, как только он отменит свой приказ, но этого не произошло. На губах у него мелькнула улыбка снисхождения к моей слабости.
Читать дальше
![Леонид Юзефович Филэллин [litres] обложка книги](/books/390245/leonid-yuzefovich-filellin-litres-cover.webp)