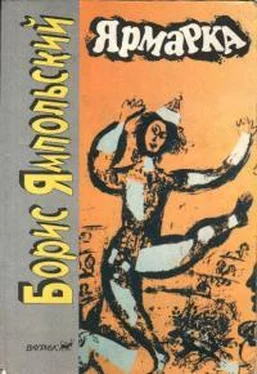Когда все сидели за одним длинным столом на лекции, ибо у нас не было ни парт, ни столиков, ни тех поднимающихся к потолку галерок, которые мы видим на фотографических снимках и в кино, а просто был длинный стол во всю огромную полуподвальную комнату, когда мы вот так сидели вечерами и кто записывал лекцию слово в слово — стенографически, кто конспектировал, а кто просто слушал, впитывая в себя, а кто слушал и не впитывал, а просто все это было как звон колокольчиков или шум метели за окном, а кто не только не слушал, но даже не знал, о чем говорят, и говорят ли вообще, и сочинял стихи или писал письмо, или просто так — рисовал кучерявые головки, человечков-уродцев, — так вот, когда мы вот так сидели — все молодые и не очень молодые — от восемнадцати до двадцати семи лет, — все как бы рассуждали одинаково, почти одинаково оценивали явления, только разве в художественных вкусах не сходились, и кто знал, кто мог бы догадаться, что именно отсюда, из этого тихого кроткого курса вынырнут, вырастут, появятся вот эти, этот извивающийся, изгибающийся, в такт времени вибрирующая глиста с кучерявой головкой, и этот насыщенный злобой и водкой горбун с красными кроткими глазами кролика, и этот хрипун с крупными черными бородавками.
Они уже были вместе, они слушали одни и те же лекции, читали одни и те же книги — великие и ничтожные, пили вино из одного стакана, все пять, потому что в общежитии был один граненый, щербатый стакан, а когда кокнули, стакан заменила жестяная кружка, прикованная некогда завхозом цепочкой к бачку, и однажды мы цепочку разорвали, разбили, камнем расплющили, и кружка пошла вкруговую, и потом пели одну песню, и как будто понимали друг друга с полуслова, полувзгляда, полукивка.
Что же их развело, разнесло, раскидало? И они оказались на разных берегах. И не только не слыша друг друга, но если бы услышали, то не поняли бы, как будто говорят на разных языках. Они могли бы поговорить жестами, мимикой, но нет — и мимика сейчас не поможет. Сейчас они просто не хотят друг друга понять, опасно друг друга понять, ибо жизнь одного — смерть и ничтожество другого. Вот как далеко, как ужасно далеко, необратимо они разошлись.
Эти все, будто вихрем, будто ураганом давным-давно живьем выдраны из семьи, из рода, забывшие дом отчий, и палисадник, и тополя, и отца, и мать, братьев и сестер. Эти уже ничем не связаны со своим родом, с преданьями, сказками, эти без корней оставлены одинокими, и в одиночестве огрубевшие, одичавшие, ожесточившиеся, этим уже ничего не страшно, и с ними можно все сделать.
И они собрались, вернее, их собрали, тех, готовых к этому, приспевших, решивших идти до конца, а может, только до середины, и еще неизвестно, как все это обернется. Их собрали на закрытые заседаньица на частные квартиры или на дачи и распределили, кто о ком будет выступать на собрании, кто кого будет убивать из своих товарищей, чтобы заранее подготовился, изучил, разузнал всю подноготную своего подопечного, хоть он и товарищ, и учились вместе, сидели рядом на одной скамье, по одному конспекту готовились к зачетам, друг для друга готовили шпаргалки. И он должен был подготовиться именно к этому убийству, прочесть последние сборники стихов, выдрать из них строчки, посредством которых можно было доказать, что подопечный космополит, нигилист, декадент, формалист, сионист. Выпивали ли они при этом или только после запили, и что они при этом думали — никто не знает.
Кое-кто пытался увильнуть, на ходу уйти в тень, спрятать руки за спину, может, он хотел сначала понаблюдать, чем это кончится, а только тогда уже войти в игру, но ему сказали:
— Ты определись. Ты брось эту игру. Ты хочешь сидеть на двух стульях, так мы из-под тебя вышибем оба стула. Будешь валяться.
Вошел он тихо, словно на цыпочках, горбун с розовыми глазами кролика, налитый вином, и горб его казался запасным, как у верблюда, бурдюком, и, как-то бессмысленно улыбаясь посиневшими губами, присел на краешек стула, а тот, высокий, кучерявый, извилистый и красивый, похожий на адъютанта гетмана Старопадского, и, казалось, у него сразу шестнадцать рук, что-то предлагал ему, какую-то сделку.
Когда горбатый вышел на трибуну, он заговорил высоким, чистым детским фальцетом исповеди.
Для меня всегда оставалось загадкой и сейчас есть самая большая в жизни загадка: что, человек рождается негодяем или просто плохим человеком, как глухонемой, или слепой, или с горбом, с красным кадыком, шестым пальцем? Что, все это заложено в хромосомах, сконденсировано, отштамповано в точных пропорциях химии его белков? Какая-то там темная крапинка, какой-то червячок, какая-то путаница в цепи нуклеидов, какой-то узелок в этой цепи? Или, может, он рождается, как все, святым и чистым и готовым к добру и чести, или уже только жизнь его делает таким, жизнь его обозлит, и однажды ночью он говорит самому себе: «Я вам покажу, я вам докажу». Что, и убийцы так рождаются, и тираны, и философы, и юродивые? И можно будет в тот мощнейший микроскоп будущего, уже по хромосоме, распознать — родился Аристотель или Гиммлер, и тогда задавить, прищелкнуть его, как клопа, так, чтобы мир никогда не узнал, что появилось на свет такое сочетание нуклеидов.
Читать дальше