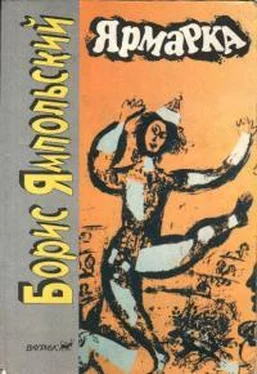— Ты кто? — спросил ксендз.
— Я не помню, — сказал мальчик.
— Куда же ты идешь?
— Вот туда, — мальчик показал на дорогу к местечку.
— Там немцы, они тебя убьют.
— Тогда я побегу вот туда, — он указал на село.
— А там еще хуже, там литовские полицейские.
— Тогда я не знаю, — тихо сказал мальчик.
— Я спрячу тебя, — сказал ксендз. — Только запомни одно: ты глухонемой.
Мальчик понимающе кивнул.
— Если тебя спросят, кто ты?
Мальчик, глядя большими темными глазами в лицо ксендза, молчал.
— А если тебя ударят, ты закричишь?
Мальчик отрицательно покачал головой.
— Ты вее время про себя думай: «Я немой», — посоветовал ксендз.
И мальчик пошел с ксендзом по дороге, повторяя про себя как молитву: «Я немой, я немой, я немой, я немой, я немой...» А вокруг лаяли собаки, свистели мальчишки на голубей, гудели костельные колокола, и в высоком небе рычали немецкие самолеты.
На зеленой лужайке мальчики в синих каскетках гоняли мяч, а девочки в кружевных воротничках и белых передниках играли в серсо, и немому казалось, что он это уже раз видел во сне.
Когда-то, в другой жизни, там, дома, у матери мальчик или рисовал красным карандашом домики, или сидел неподвижно и считал в уме цифры. Он с младенческих лет любил цифры, они были как человечки, и он запоминал их в лицо и легко складывал и умножал. А теперь весь день его был занят. Кухарка будила его в четыре часа утра, и он носил дрова и воду на кухню, потом готовил пойло свиньям, кормил кур, гусей и кроликов, убирал двор и тротуар перед домом ксендза, потом выбивал ковры, скреб добела и мыл мылом крыльцо, подметал паперть костела, чистил дорожки в саду, посыпал их желтым песочком и все молчал, молчал.
И только ночью, в сарайчике, где он спал со щенком на соломенной подстилке, он тихонько на ухо щенку шептал: «Ух, ты мой Шарик» — и плакал. И Шарик понимал его и тихонько скулил.
На реке кричали лягушки, и сквозь сладострастное лягушачье безумие слышались грубые немецкие крики: «Вэк! Вэк!»
В местечке все привыкли к немому, и когда он бегал в лавочку за керосином, или в аптеку, или еще куда, уличные мальчишки гнались за ним и дразнили: «Мэ, мэ!» И собаки, видя это, тоже гнались за ним и пытались схватить и разорвать штанину, а он прижимался к забору, и большие печальные глаза его молча и затравленно глядели на солнечный мир.
Наступила осень, все мальчики с ранцами пошли в школу, иногда они у костела останавливались и со смехом спрашивали у немого:
— Ну, ты знаешь, сколько дважды два?
А он, в уме легко умножавший трехзначные цифры, глядел на них и молчал, а они смеялись и говорили:
— Дурак, дважды два — пять.
Однажды, уже поздней осенью, когда с неба сыпалась жесткая, звонкая снежная крупа и немой проходил берегом реки, мальчики нарочно столкнули его в воду, он стал захлебываться, тонуть и вдруг... закричал.
— Чудо! — сказали мальчики на берегу.
— Чудо, чудо! — передавали из дома в дом по зеленым, узким гористым улочкам. И люди стали собираться к костелу, чистые, опрятные литовские старушки и крепкие, настырные, корыстолюбивые старики, слепые и глухие, и немые, и калеки, и грудастые бесплодные молодухи, и золотушные дети. На паперти стоял бледный, испуганный черноглазый мальчик, плакал и глотал слезы, а они, как Иисусу Христу Спасителю, целовали ему руки и просили благословения и исцеления.
— Нет! — вскричал вдруг ксендз. — Это я виноват, я вас обманул. Это не святой, это жидовский мальчик.
В это время мимо на тяжелом зеленом мотоцикле проезжал полевой жандарм, в каске, в пенсне, с автоматом на груди. Он остановился, узнал, зачем шум, и сказал черноокому мальчику:
— Ком!
Он повел его за костел, в бурьян, и там, как кролика, пристрелил.
Он думал о тех, с которыми жил в студенческом общежитии, в лесу, обедал в столовой Юридического института на двадцать копеек — красный винегрет, картофельный суп и каша; читали по вечерам вслух Багрицкого и Бабеля, спорили о «Брусках» Панферова, носили одно пальто и одну теплую шапку.
Они так же, как и он, приехали из маленьких городков и сел, из домиков с палисадниками, в которых цвели анютины глазки, из домиков с окнами и вырезанными наличниками и крылечком, над которым кукарекал вырезанный из жести петух, в черных сатиновых рубашках, полотняных брюках, в обмотках и парусиновых туфлях, воспаленные, возбужденные, взбаламученные, больше всего на свете жаждущие, мечтающие взять кайло в руки и лежа на спине рубить уголь или руду, или глину в тоннеле в метро, или, если повезет, стать у токарного, фрезерного или револьверного станка, но уже на пределе мечтаний — взять в руки винтовку и быть ворошиловским стрелком, — честные, чистые, отчаянные, голодные и веселые.
Читать дальше