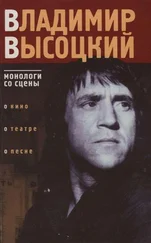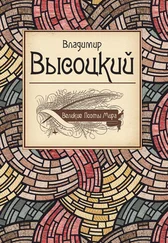Эти и другие истории вспоминались и мелькали в глазах его, когда отдыхал он в бараке на нарах, в старом, ещё не переоборудованном лагере под Карагандой. Эти и другие, но чаще всего всплывало перед ним красивое Тамаркино лицо, всегда загорелое, как в тот год после лета, когда у них всё случилось. Он и подумать никогда не мог, что будет вспоминать и тосковать о ней, даже рассмеялся бы, если бы кто-то предсказал подобное. Но у всех его друзей и недругов вокруг были свои, которые, как все друзья и недруги надеялись, ждали их дома. Была это всеобщая жадная и тоскливая необходимость верить в это — самое, пожалуй, главное во всей этой пародии — на жизнь, на труд, на отдых, на суд.
И глубокое Колькино подсознание — само выбросило на поверхность прекрасный Тамаркин образ и предъявляло его каждую ночь усталому Колькиному мозгу, как визитную карточку, как ордер на арест, как очко — 6-7-8. И Колька свыкся и смирился с образом этим назойливым и даже не мог больше без него, и, если б кто-нибудь теперь посмеялся бы над этими сантиментами, Колька бы прибил его в ту же минуту. И лежал он с закрытыми глазами, и стонал от тоски и бессилия. Но ни разу не написал даже, ни разу не просил никого ничего передавать, хотя все, кто освобождался раньше, предлагали свои услуги: — Давай, Коллега, письмо отвезу. — Кольку в лагере уважали за неугомонность и веселье.
— Чего мучаешься? Писем не ждешь и не получаешь! Помрёшь так!
— Ничего, — ответил он, — приеду — разберёмся. — Писем он и вправду не получал — даже сёстрам запретил настрого писать, а дружки и не знали, где он, да и Тамара тоже.
А сейчас сидит он в её доме и не спрашивает у отца её, из самолюбия что ли, — ничего о ней. Пьёт с ним, с М.Г., да перекидывается незначащими ничего фразами и напевает.
Но вот повернулся ключик в двери, и она вошла — Тамара, Тамара Максимовна, прекрасная и повзрослевшая, худая и стройная, в чёрных очках и голубом, летнем уже, пуловере и джинсах. Просто так вошла, а не влетела, как ангел, и пахло от неё какими-то духами, выпивкой и валерианкой, и синяки были на лице её, хотя тон был уже с утра положен и густо положен. Но ничего этого Колька не заметил, потому что нежность, которую копил он понемногу, малыми порциями, превратилась сейчас в огромный ком внутри, и разрывал этот ком внутренности и грудь, вылезал и наружу, и в голову, и Колька не встал даже, а хрипло только сказал: «Здравствуй», — и повесил в воздух гитару, которая упала на пол, не повиснув, и треснула, и зазвенела обиженно струнами, дескать: — Зачем ты так со мной, я всё-таки инструмент нежный.
— Здравствуйте, — ответила Тамара тихо. Смешалось у неё в голове нечёсаной всё разом — многовато было для неё на вчера и сегодня. Вчера, когда была она у подруги из актрис, а эта Лариса была разговорницей из Мосэстрады и ездила часто с разными бригадами концертными в разные концы страны, чаще на Север, на Восток, в глушь, где не надо было особо заботиться о качестве программ, куда редко заедут знаменитости и хорошие актёры с новым и интересным репертуаром, где уровня не требуют, да и не дают — и так сойдёт. По три-четыре концерта в день, в месяц за сто перевалит — по ставке, плюс суточные, деньги хоть и небольшие, а жить можно. У Ларисы сидел временный её сожитель, возивший её в последние поездки, — Володя, парень весёлый, добрый и деловой. Пришла к ним Тамара потому, что надеялась поехать с ними в следующую поездку, но оказалось, что в Магадан нужен пропуск, без него нельзя, и они втроём, не сильно даже погоревав об этом, выпили и закусили. И вот тут-то Лариса, она уже все последние московские сплетни выговорила, всем кости перемыла, про всё успела позубоскалить, про всё, кроме одного…. вдруг и говорит: «А у меня вчера Кулешов был Саша с новой какой-то девочкой, из театра, что ли. Хорошенькая такая, молоденькая. Он влюблён, как я уже давно не видела, воркуют они и за ручки держатся», — хихикала она, не замечая вроде Тамариной реакции. Что это с ней? С Тамарой — побледнела и со стула — на пол. Володька ей воды, по щекам хлестать — лежит как мёртвая.
— Ты что же, тварь, не видела разве, что плохо ей, только и знаешь — языком чесать. Она же с Сашкой этим живёт, или не знала? А может, ты нарочно? — говорил Володька, прикладывая на лоб Тамаре мокрую тряпку. — Нельзя, милая, быть такой мразью, завистливой.
— Ты, Володя, с ума сошёл, при чём тут зависть, — испуганно бормотала Лариса. Хотя зависть-то была причём. Полгода назад сама Лариса была влюблена в Кулешова, он тогда пел весь вечер новые свои песни, и все кругом с ума сошли и визжали от восторга, а он — Сашка — улыбался только и благосклонно принимал комплименты, не особенно всерьёз, белый от напряжения, с каплями пота на лбу, в вымокшей рубахе. Послушает — и новую песню споёт, ещё похлеще предыдущей, выкрикнет, как в последний раз. Даже слова иногда не слушала Лариса, а только голос, от которого мурашки по коже и хорошо становилось на душе, хотя надрыв и отчаяние были в песнях и слова грубые и корявые:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу