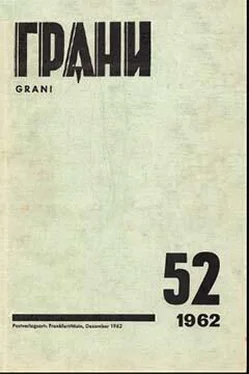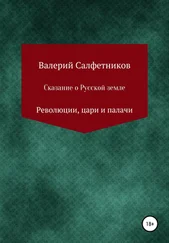— Понимает ли он, что тысячи его далеко не поверхностных слов не стоят одной из тех миллионов жизней невинно загубленных людей, погибших от руки злодеев, которых он прославляет, чей образ мыслей и жизни он противопоставляет Мини и другим? Вздыхая о том, что в Штатах раз в году линчуют одного негра, кстати самого рядового, подумал ли он о том, что у нас в течение года были замучены тысячи ни в чем не повинных евреев, и не рядовых, а видных деятелей науки и культуры: писателей, актеров, профессоров с мировыми именами? Что были почти полностью уничтожены целые народы: калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары? Что сотни писателей всех республик погибли на каторге? Вспомнил ли Грибачев, проливая крокодиловые слезы об американских писателях, живущих на подаяние, справку, которую он слышал на партсобрании московских писателей о том, что в одной Москве сто семьдесят престарелых и больных писателей живут впроголодь?
Впрочем, вряд ли когда-нибудь поймет Грибачев, что, выражаясь его словами, «розовый лак умиления» по адресу нашей страны, который течет и низвергается с его пера, не поможет делу коммунизма. Он верно сказал: — Разве не противно элементарному чувству человечности маскировать социальные язвы розочками поверхностного суесловия?
Очень противно! И мне было тошно читать статью эту.
Извините за правду! Но, как сказал ваш близкий родственник Пришибеев:
— Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство по взаимности.
Моя работа в жилищном отделе в первые месяцы совпала с предвыборной кампанией.
Одна пустая комедия, которая так дорого обходится людям. А сколько лживых речей, посулов! Даже выдвинуть в кандидаты нельзя никого, кроме тех, которых назначили свыше. Одного агитатора, очень хорошего и заботливого человека, выдвинули какие-то граждане. И вот ему объявили строгий выговор по партийной линии, за то, что он их не отговорил от этой затеи.
Я привык работать по ночам, ложусь очень поздно и почти не сплю. И думаю всё об одном. Когда же прекратится эта комедия? Все говорят, что не нужно никаких выборов, никаких Советов, все они ничего не решают, — пустые говорильни, — да и слишком дорого обходится это.
По-видимому, секретарь райкома, направляя меня на работу в жилищный отдел, конечно, не без ведома вышестоящих органов, не думал, что я всерьез заинтересуюсь работой, которая по плечу опытному дворнику. Как я впоследствии убедился, секретарь райкома и сам не имел представления о том, что происходит в этом учреждении, и не особенно интересовался — ведь он партийный деятель, руководит районом с населением свыше полумиллиона. Ему известно было, что с жильем обстоит неблагополучно, — но что же делать? Есть еще немало узких мест. Что это неблагополучие дурными и нерадивыми людьми, взяточниками и прохвостами, превращается в катастрофу, — он, конечно, не знал. Но и знать не хотел.
Я всегда глубоко ненавидел чиновников, но полагал, что это просто паразиты, ко всему равнодушные, кроме своей собственной утробы. Но сейчас убедился, что среди них есть немало циников, злорадствующих обывателей, любителей поиздеваться над людьми.
Среди сотрудников жилотдела мне больше всего запомнились сам заведующий Иван Иванович Краснобрюхов и старший инспектор Розалия Абрамовна Загс.
Все, конечно, знали кто я и считали своим долгом обратить на себя мое внимание. Одни пытались меня как заблудшего, посланного к их станку исправиться, воспитывать в правоверном духе. Другие высказывали мне как отступнику свое тайное сочувствие, с неприкрытым цинизмом отзывались о работе своего учреждения, даже навязывались в приятели.
Мой шеф Краснобрюхов, по-видимому, не знал, какую ему следует избрать тактику со мной — то ли воспитывать, то ли дружить, — и впадал то в одну, то в другую крайность. Человек он был не глупый, и я был поражен, узнав его биографию, чудовищно не соответствующую тому человеку, с которым я теперь ежедневно общался.
Сын бедного крестьянина, он родился в начале века в захолустном и пыльном южном городке, носившем гордое имя Азов. Еще мальчишкой убежал из дому, поступил помощником кока на небольшую посудину, плававшую под голландским флагом, и объездил весь мир. Особых приключений у него не было, — какая там уж романтика на этой посудине, возившей табак и кишмиш? Ничего особенного, даже скучно. К вину и женщинам у Ивана Краснобрюхова склонности не было, а для других похождений не было арены. Ему стало скучно на корабле. Он вернулся на родину, защищал советскую власть от разных банд, поступил в лётную школу и стал знаменитым летчиком. В годы Второй мировой войны сбил насколько юнкерсов, получил боевые награды, был шесть раз ранен и вернулся инвалидом. Он мог бы, разумеется, прожить на свою пенсию и ничего не делать, но беспокойная натура требовала движения и, главным образом, общения с людьми. Поэтому работа ему понравилась. Чего-чего, а шума, суеты, разнообразных людей, от героев Советского Союза до базарных жуликов, была тьма-тьмущая в грязных и темных коридорах нашего учреждения. Сотни «очередников» приходили чуть свет записываться на прием. «Очередники» — это лица, состоящие на учете как нуждающиеся в жилплощади. Их были десятки тысяч, и ждали они своей очереди по восемь-десять лет, чтобы получить какую-нибудь комнату на целую семью. И чего тут только не наслышишься, — особенно проклятий по адресу советской власти. Некоторые ходили сюда почти ежедневно, как на работу, особенно женщины. Жилищные условия этих людей были таковы, что даже описывать страшно. Но наши клиенты рассказывали о них с упоением, словно калеки-нищие, выставляющие напоказ свои гниющие язвы.
Читать дальше