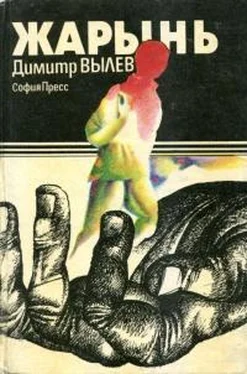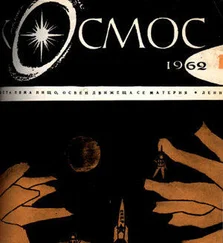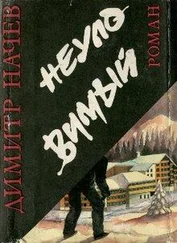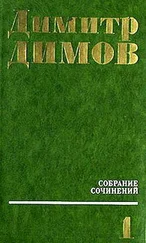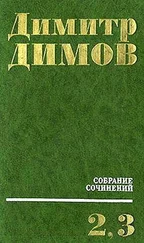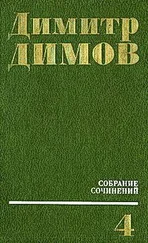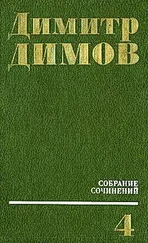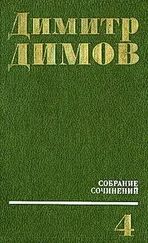— Давай, а то я спешу.
— Никто нигде тебя не ждет, — желчно сказала Милка. — Ты умеешь только портить. Ты развратил сельчан. Этого тебе не простят.
— Почему?
— В твоем доме надо бы объявить карантин.
— Чем же я их заразил? Что я уничтожил?
— Природу.
— Природу уничтожает время. В земледелие вторгается индустрия. Одни слюнтяи плачут по листочкам да травинкам.
— Ты жесток, — сказала Милка.
— Я — исполнитель.
— А люди?
— Я думаю о них. Об их добре.
— Ты губишь их.
— Не думал я, что дочь политкомиссара станет предрекать гибель целого народа, — сказал Кехайов с безжалостным бесстыдством карьериста.
Милка с горечью глянула на него, но его острые скулы не дрогнули, и ей стало тошно. Ей и в голову не приходило, что как страх потерять землю порождает тиранию, так и крах карьеры может сделать из человека насильника. «Мамочка, — с болью подумала она, — смогу ли я его разоблачить? Неужели верно, что разоблачить человека можно лишь тогда, когда сам обладаешь его недостатками?»
— Не тревожь прах отца, — сказала она и устало склонила голову.
Кехайов долго стремился к самостоятельному посту, который развязал бы ему руки, Хотя он занял место Керанова с горечью, медовый месяц на посту начальника прошел неплохо. Дни были полны бодрости, ночи — спокойствия. Время от времени он удивлялся, что его удовлетворяет безделье, но успокаивал себя тем, что дело тут не в лишних пороках, а в уже получившем распространение увлечении постами. Сельчане, решив, что он будет руководить так же лениво дальше, начали жалеть о Милке, Керанове, Маджурине и Ивайло. Чаще можно было услышать ругать там, где сходилось по двое или больше двух человек: на мельнице, на площади, у пекарни, на реке, возле брода, в кабинах тракторов и грузовиков. Ругань то угасала, то вспыхивала снова, субботними вечерами, в корчмах или на скамейках у ворот, воскресными утрами у водохранилищ юга и пивных по новозагорскому шоссе, крестьяне пили или неподвижно торчали у воды с удочками с недокуренными сигаретами в зубах. Они говорили:
— Так всегда было: один в бубен бьет, другой пот льет. Хорошие люди ушли, а этот лодырь остался — из нас силы выжимать.
Медовый месяц Кехайова завершился в конце ноября. Ему казалось самым разумным засадить малиновый массив или немного убавить пуху, но вскоре он понял, что вести хозяйство на рысях и дальше невозможно. А если он «урежет» выплату? Это вызовет недовольство. У него было такое чувство, что он сидит в яме с отвесными краями, и он решил обратиться за советом к старикам, сидящим на бревне у школьной ограды.
Весна была ранняя, и старики раньше обыкновенного выползли на бревно. Оклов сидел в центре компании. С тонкой шеей, ботинках с галошами и потертой шляпе дед днем и ночью дремал, только изредка приходя в себя. Иногда он переносился во времена Балканской войны; выходил на новозагорское шоссе и спрашивал водителей автомобильных колон:
— Ребята, на Андрианополь идете?
— Какой тебе Андрианополь? Мы, дедка, помидоры везем.
— Да ну? А вы не видели в Омарчево Димчо Дебелянова, а под Куртуланом — Йордана Йовкова с батареей?
— Дедка, да ты, никак, из психиатрички сбежал!
Около стариков крутились Марин Костелов, Гачо Танасков, инженер Брукс, Асаров, Перо и Марчев. Танасков — с тощим лицом, шея повязана драным шарфиком — просил дедов излечить его от остервенелости души:
— Напала на меня вчера страшная кровожадность, отрезал кусок кожи у живого осла и сделал себе царвули.
— Осади, раскатился! — разоблачал его инженер Брукс.
— Помалкивай, Бочо, — возражал Гачо лжеинженеру. — Скотина сдыхала уже. Грех тебе обижать сироту.
— Это ты-то сирота?
— А то кто же? Отец задницей крутнул и умер. Ни стыда, ни совести, оставил меня одного маяться.
— Не рыдай по папаше. Все село знает, что вы жили как кошка с собакой.
— Вранье. Верно, каждый год мы делились, но сколько продолжалась наша ссора? Бабы поругаются, старик и говорит: «Бабка, поехали к старшему сыну на верхний конец села!» Нагрузим барахло на телегу, доедем до площади, остановимся. «Выпьем, Гачко, по маленькой на прощанье», — скажет отец. Опрокинем стоя по бутылке, а отец мямлит, что так вино несладко, надо пить за столом. А там, глядишь, и пошло — бутылка, другая, третья, — пока старый не начнет заплетающимся языком бормотать: «Гачо, ну какого черта поеду я к старшему сыну? Он не курит, не пьет, куда мне такой. Мне с тобой приятнее жить в одном доме». «Отец, — говорю, — да я не могу дышать без тебя!» Усаживаемся на телегу и катим домой. Вернемся пьяные в стельку, обнимаемся. И так каждый год. Чудесно жили, да помер старый.
Читать дальше