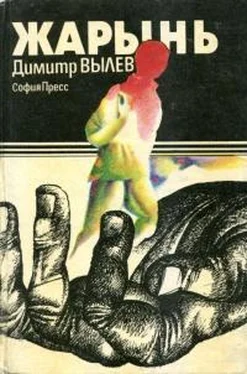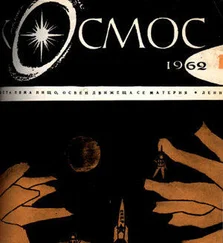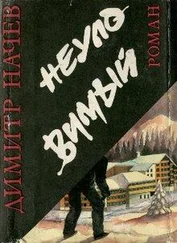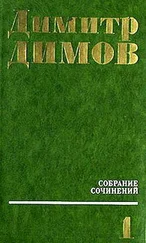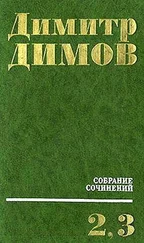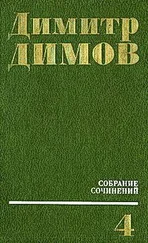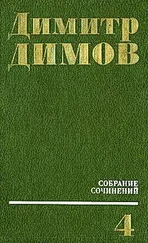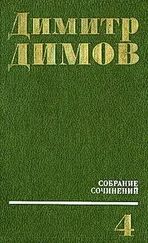— Прорубил высокие двери, не хочу кланяться собственному дому, — сказал Маджурин.
Посреди комнаты на пестром половике стоял длинный стол, накрытый льняной скатертью. Милка присела к столу. Маджурин достал из духовки тарелку с тремя пончиками. Милка начала есть, а он, сидя против нее, с врожденной деликатностью пожилого крестьянина старался не смотреть, как она жует пережаренное тесто. Время от времени он поворачивал лицо в сторону кухни. Там Маджурка возилась с обедом, и по легким запахам приправ можно было догадаться, что баба готовит легкую пищу.
— Как же это вы, дядя Христо? — спросила Милка, и голос ее прозвучал не так гневно, как ей хотелось бы.
— Зло приходит, не спросившись. Так же, как и добро. И от зла, и от добра никуда не денешься.
— А где была ваша совесть? Каждую осень и весну вы высоко подрезали ветви. Разве вы не видели, что наносите вред деревьям? И земле!
— Как-то раз, — медленно проговорил Маджурин, — купил я поросенка. А он возьми и съешь полное корыто отрубей. Поел, проковылял два-три метра по двору и лопнул. А в прошлом году слопал наш техник три кило черешни с косточками и умер.
— Он что, ненормальный был?
— Нет, обжора.
— Разве нет у вас порядочных людей? Почему ты позволил губить сад?
— При старом режиме я впрягал в плуг коров, — отозвался Маджурин, не привыкший к ясным ответам; ему казалось, что от них попахивает ложью. — Как только подрастали телки, старых коров сбывал на мясо.
— А теперь что — поглупел? Надо было не сдаваться, бороться за жизнь деревьев. Если бы отец бросил пулемет, как бы он жил потом?
Она уже перестала есть, и ее голос, освободившись от благодушия хлеба, безжалостно ударил по Маджурину. Милка почувствовала, что долг велит ей бичевать прегрешения, щадя людей. Оба молчали, залитые лучами осеннего солнца, бившими в окна. Маджурка подала голос из кухни:
— Чего замолчали?
Милку поразил ее сговорчивый голос, казалось, прежде чем заговорить, пожилая женщина держала во рту слова, пока они пропитаются мягкостью нёба. Маджурка вошла в комнату, ее руки, белые, крепкие, с засученными рукавами, словно бы не имели ничего общего с уже одряхлевшим телом. Девичья некрасивость умерла, ее лицо с крупными поперечными морщинами, какие бывают у женщин, которые чаще смеются и реже плачут, было озарено мудрой красотой. Стана глянула на мужа с уважением, без жалости, — она видела только времена его гордыни. Женщина эта, казалось, принесла с собой в новый дом из камня и бетона тепло и уют старинного жилья с потрескавшимися балками, чуланами и очагами. Муж, успокоенный ее дружелюбием, откинулся на спинку стула, и Маджурка вернулась в кухню.
— Я тоже хотел стрелять, как твой отец, — сказал Маджурин, вдыхая теплый парок, струившийся из кухни. — Он, земля ему пухом, у меня в доме не раз находил приют, я делил с ним хлеб и соль. А теперь ночами молил его, чтобы он ожил. Спрашивал в темноте: «Эмил, отзовись, скажи мне, что делать, — стрелять или не стрелять?» Он молчит, но я-то понимаю, что оружием землю не заставишь родить.
Милка слушала, осторожно глядя на узкую полоску между темнотой лица и светлой голубизной рубахи. Он дышал неровно, ему казалось, будто за столом сидит не Милка, а ее отец. Еще девять лет назад, когда она жила в его доме, в той самой комнате, где в свое время останавливался ее отец, он находил в девушке благотворную красоту и жалел, что не может стать сватом покойного политкомиссара шестого отряда. Жена Стана не родила ему сына. Он не замечал в девушке ни жеманной стыдливости, ни испорченности. Она жила естественной жизнью, его наметанный глаз — глаз человека, живущего среди природы, — давно приметил, что при лености красота не идет впрок. Он напрасно искал на ее лице ту невыносимую слабость, какую видел у жены перед родами. Мрак на его лице сгустился, он понял, что она еще не готова перейти вброд мутную реку.
— За Кехайова стоят все мерзавцы в Янице, так? — сказала она.
— Природа, не режь напрямик! Человек есть человек, вся штука в том, на что спрос — на зло или добро. Сначала к Андону стали липнуть люди, у которых обе руки левые. Если бы детей топорами мастерили, у этого народа никогда бы не было потомства. А в мошенничестве любого за пояс заткнут.
— И Кехайов посеял смерть.
— Одному человеку не дано ни рожать, ни умерщвлять.
Милка не видела признаков улыбки на лице Маджурина, и его хмурость уже начала раздражать ее. Сидя над пустой тарелкой, она выждала подходящую минуту, спросила:
Читать дальше