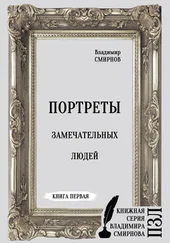Большой поэт приходит не только со своим пониманием того, что такое поэзия, но и – что такое стихи. Конечно, общекультурные тенденции влияют на это понимание, однако не определяют его.
Когда Толстой, чрезвычайно важный для Слуцкого писатель («От Толстого происхожу, ото Льва, через деда…», «Народ, прочитавший Толстого…», «И воевали тоже по Толстому…»), сомневался в самой возможности существования стихов – как это: идти за плугом и при этом пританцовывать?! – он не думал о возможности появления другой стихотворной эстетики. Такой, как у Слуцкого. Без пританцовывания.
Слуцкий именно идет за плугом, поднимая те пласты народной жизни, которые во времена Толстого считались исключительно объектом эпической прозы. Он не думает об изяществе, очевидно, уповая на то, что красив сам процесс тяжелой работы, если она выполняется добросовестно и сноровисто.
На этом пути много потерь, но есть и бесценные приобретения. «Шепот, робкое дыханье» практически отсутствуют, а вот «трели соловья» получают даже неожиданное звучание:
И военной птицей стал не сокол
и не черный ворон, не орел –
соловей, который трели цокал
и колена вел.
Вел, и слушали его живые,
и к погибшим залетал во сны.
Заглушив оркестры духовые,
стал он главной музыкой войны.
А вот после войны исчез:
В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.
Подобные наблюдения-свидетельства составляют значительную часть стихов Слуцкого. И зачастую они куда более, чем процитированные, существенны для понимания произошедшего со страной и людьми:
Странная была свобода:
делай все, что хочешь,
говори, пиши, печатай
все, что хочешь.
Но хотеть того, что хочешь,
было невозможно.
Надо было жаждать
только то, что надо.
‹…›
Лишь котлеты дорого ценились
без гарнира
и особенно с гарниром.
Легче было
победить, чем пообедать.
Победитель гитлеровских полчищ
и рубля не получил на водку,
хоть освободил полмира.
В своих стихах Слуцкий исповедовался скорее не Богу, а народу, своим гипотетическим читателям. Такая исповедь не предполагает причастия. По крайней мере, в двадцатом веке.
Не это ли привело к трагедии Слуцкого – его восьмилетней медицинской депрессии, основным симптомом которой было категорическое нежелание участвовать в литературном процессе и даже разговаривать с людьми на любые не бытовые темы?
В одном из последних стихотворений, написанных перед самой болезнью, Слуцкий, отвечая на поставленный самому себе вопрос «А чем теперь мне стать бы?», говорит:
…словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня…
Борис Абрамович по поводу отношения своего исповедника к себе отнюдь не обольщался. Какое уж тут могло быть причастие!
Конечно, одной из главных причин болезни Слуцкого стала смерть самого близкого ему человека – жены Тани:
Жена умирала и умерла –
в последний раз на меня поглядела, –
и стали надолго мои дела,
до них мне больше не было дела.
И все же его уход из литературной и общественной жизни нельзя объяснить только этой невосполнимой утратой.
Он не хотел и не мог проживать нашу новейшую историю, которую предвидел и в которой не находил места ни для себя, ни для поэзии вообще, как он ее понимал:
Наш номер снят уже с афиш.
Хранители этого дара
дарителям вернули дар.
И – еще страшнее и определеннее:
Раньше думал, что мне места нету
в этой долговечной, как планета,
эре!
Ей во мне отныне места нет.
Следующая, новая эпоха
топчется у входа.
В ней мне точно так же будет плохо.
А основные составляющие поэтического дара Слуцкого – скрупулезная честность перед собой и больная совесть – оказались как ни странно необходимыми условиями его болезни. Он не мог позволить себе не осознавать происходящего и забыть о том, что мучило:
Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самою злой, колючей
Оседает в моей крови.
Солит мысли мои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет.
И подрагивает, и постукивает,
И покоя мне не дает.
Это, несомненно, об истории с Пастернаком.
Кстати, еще один поэт фронтового поколения Александр Межиров говорил, что, уверен, сам тогда поступил трусливее Слуцкого: чтобы только не оказаться на том собрании, где уничтожали Пастернака, улетел в Тбилиси, а оттуда на такси уехал в Ереван – дабы наверняка не нашли. Словом, нельзя судить одно время с позиций другого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хлебников Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] обложка книги](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-cover.webp)
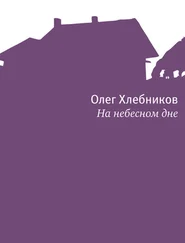

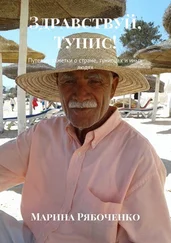
![Олег Дивов - Назад в космос [сборник litres]](/books/385490/oleg-divov-nazad-v-kosmos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)
![Олег Батлук - Исповедь старого молодожена [сборник litres]](/books/390327/oleg-batluk-ispoved-starogo-molodozhena-sbornik-l-thumb.webp)
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/390784/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres-thumb.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/435631/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli-thumb.webp)