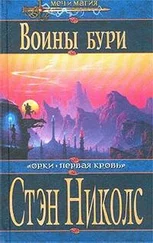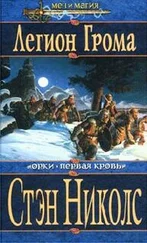Долгую минуту они смотрели друг другу в глаза. Тедди покраснел и с трудом сдерживал совершенно неуместную улыбку, готовую расцвести на губах. Ее щекам было жарко. Хотелось сбежать как можно быстрее и, как ни странно, шагнуть к нему и поцеловать снова.
— Как долго мне этого хотелось, — признался он.
— О! — невпопад отозвалась она. — Тебе понравилось?
— Балда, — сказал Тедди. — Ну конечно же! — Его губы одержали верх над хорошими манерами, и он просиял. — Рискну предположить, что ты сочтешь меня до ужаса необузданным, — начал он, — но не могли бы мы повторить?
Это был единственный раз, когда она поцеловала его. И с тех пор не переставала гадать, сделает ли это когда-нибудь вновь.
В июле 1916 года Мэй исполнилось семнадцать.
По мнению некоторых девочек из ее класса, семнадцать лет — практически взрослость. Одна или две из них уже покинули школу; одна волонтерствовала в лондонском госпитале, другая помогала ухаживать за братом, который вернулся из армии инвалидом. Но большинство еще продолжали учиться.
Однако пыл и рвение первых лет войны уже угасли. Война стала обычным явлением, да еще и пренеприятным. Взрослые все еще могли вести — и вели — разговоры о «великом самопожертвовании» и «отважных героях», в газетах публиковали письма матерей, прославляющих подвиги их погибших детей. Но, как ни странно — а может, и совсем не странно, девочкам из класса Мэй стало все равно. У каждой кто-нибудь из знакомых юношей воевал во Франции, или в Италии, или в Египте, или в Бельгии, или в Турции, или в Палестине. У некоторых на войну ушли братья, или отцы, или близкие родственники. У Барбары даже был возлюбленный, который служил в Египте, — вернее, это она утверждала, что он ее возлюбленный, юноша, который жил на той же улице и записался в армию в день своего восемнадцатилетия. Но ура-патриотизм первых лет сменился скукой, а в некоторых случаях и цинизмом. Теперь, когда учителя заводили речь о славе и самопожертвовании, девочки лишь хихикали, зевали и закатывали глаза. Признаком умудренности опытом считалось быть выше национализма взрослых. Несколько учениц выпускного класса открыто объявили себя пацифистками. Даже в предвыпускном классе был утрачен интерес к войне — разве что кто-нибудь жаловался на дефицит продуктов, а также на скучный и скудный рацион, состоящий из тонких ломтиков хлеба, водянистого рагу и нескончаемого сероватого маргарина.
Как-то между делом, не говоря громких слов и вообще не признавая это вслух, девочки помирились с Мэй. Примирению в какой-то мере способствовал и погибший в апреле брат Барбары. Никто, разумеется, не стал припоминать Барбаре, как в 1914 году она уверяла, что лишь порадуется такому исходу. Когда же это действительно произошло, оказалось, что радоваться подобным событиям невозможно и это очевидно всем. Мэй тоже не стала злорадствовать: «Я же тебе говорила!» Может, и она повзрослела; случись это в 1914 году, она бы не удержалась. В тот же день перед уроком гимнастики Мэй догнала Барбару и тихонько сказала:
— Сочувствую, очень жаль Джона.
В прошлом году Барбара фыркнула бы, отвернулась, притворилась, что не слышит. Но теперь, наверное, сочла их ссоры слишком мелочными, поэтому просто кивнула:
— Спасибо.
Больше об этом не было сказано ни слова. Но с тех пор Мэй заметила, что никто из девочек в ее классе не горит желанием продолжать травлю. Не то чтобы они подружились с ней, но не отказывались поделиться листом промокашки или передать соль. А через несколько недель Мэй попала в одну хоккейную команду вместе с несколькими девочками из ее класса, и у нее появилось с кем ходить в раздевалку с истории или дружески обсуждать тактику игры. Ей досталась роль в школьной постановке — небольшая, но со словами, и Мэри Уотерфилд из ее класса, занятая в тех же сценах, что и она, однажды всю прогулку признавалась ей на чудовищном французском (это было одним из школьных заданий), как сильно она волнуется. Потом Уинифред и Джин решили устроить представление с песнями и комическими сценками, чтобы собрать деньги для голодающих детей Бельгии, и пригласили Мэй участвовать, а Мэй уговорила Барбару прочитать какие-нибудь стихи и даже сумела прикусить язык, когда Барбара объявила, что будет читать этого кошмарного, насквозь патриотического «Горация на мосту»:
Порсена Ларс из Клузия
Клянется всем богам:
«Великий дом Тарквиния
В обиду я не дам!»
Всем девяти богам спешит
Расплаты день назвать,
Велит гонцам объехать в срок
Он север, запад, юг, восток,
Чтоб армию собрать.
На север, запад, юг, восток
Гонцы стрелой летят,
И слышит каждый городок,
Как весть они трубят:
«Позор тому этруску,
Кто шкуру бережет,
Когда сам Ларс Порсена
В поход на Рим идет!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

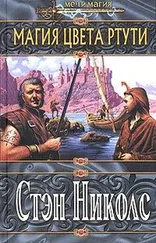
![Уоллес Николс - Ближе к воде [Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу жизнь]](/books/25971/uolles-nikols-blizhe-k-vode-udivitelnye-fakty-o-t-thumb.webp)