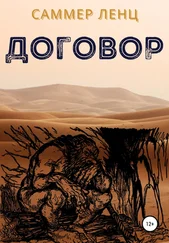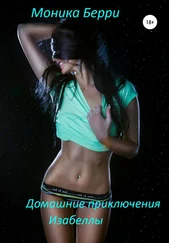— И когда нам позвонил этот полицейский… Он сказал, что нашел ее, но она не хочет, чтобы мы знали, где она! Ты представляешь, Бенжамен?
Она шумно дышит, прижимает руку к груди, закатывает глаза.
— А ты… Тебе и так было плохо. К чему что-то говорить? Чтобы сделать тебе еще больнее? Чтобы ты решил, что ты тоже для нее ничего не значишь? Что она, как всегда, думает только о себе?
Я кивнул, я вообще кивал и кивал, чтобы успокоить ее, или успокоиться самому. Но что-то стало подкатывать к горлу, что-то из прошлого, сидящего глубоко-глубоко. Или это ночь так будоражит меня? Мне хотелось коснуться до ее щеки (влепить пощечину?) или зажать ей рот и давить, давить изо всех сил, чтобы она перестала…
Мать смотрит на меня, в ее глазах мольба, но меня в этом взгляде нет.
— Никому, слышишь, никому не понять, что я пережила. Что значит родить совсем одной, когда тебе двадцать два. Там были эти женщины, этот жуткий врач, они копались у меня в ногах, приказывали что-то. Это было ужасно.
Она бьет кулачком по столу, своим маленьким кулачком, маленьким камнем, и глаза у нее сверкают в потеках туши и слез, они сияют потусторонним огнем, в них сила и отторжение, которые стояли между нами все эти годы.
— Она все у меня украла, Бенжамен, все!
Я поднимаюсь, опираюсь на секунду о спинку стула и шепчу: «Мне пора», или: «Прости», или: «Заткнись, черт возьми!» Она смотрит на меня с удивлением, глаза у нее блестят, губы продолжают двигаться, но я ничего не слышу, иду по коридору и убегаю прочь. Навсегда.
Бархатная ночь сжала меня в своих объятьях, чьи-то крылья или выпавшие из них перышки коснулись моего лица. В темноте я слышу, как шепчет озеро. Оно гладкое, словно зеркало. Вода стала фиолетовой, она кажется густой и живой, а над ней дрожит лунный свет. Деревья наклоняются ко мне — это великаны, им хочется разглядеть получше диковинное двуногое существо, они следят за мной сквозь медленно покачивающиеся кроны. Весь мир — заблудшие и туманные звезды, тени, невидимые животные, растения, выдающие пьянящие глотки кислорода — с доверием смотрит на меня, я улавливаю его глубокое дыхание.
Интересно, имеет ли мать хоть малейшее представление о той иной жизни, которую она хотела бы вести? Понимает ли, о чем говорит? Или это всего лишь фантазия — слепящий далекий горизонт, девственно чистое небо? Или девичий талисман, отполированный годами тщетных ожиданий — каждый новый день озаряет его новым светом, и он тоже кажется новеньким, будто его только что вытащили из самого сердца земли.
Я подхожу к кромке воды, она зовет меня. Спокойно дышит, как спящее, а может, раненое животное.
Я вижу Джил: она сидит, голая, в кресле, машет руками, повторяя движения какого-то мужчины. Бернара Барбея? Господи боже. Джил водит рукой, показывая, как та скользит по голой материнской спине. Я вижу мать, замечаю, как непривычно сверкают ее глаза, когда она смотрит на Бернара Барбея. Вижу сестру в халате или футболке — она, заспанная, идет на кухню — и ловлю его пристальный взгляд. Мать нервно закуривает. Я закрываю глаза, чтобы отогнать невыносимые картинки, которые проносятся в моем воспаленном воображении.
Передо мной непроявленная фотография, оставленная в фотоаппарате. Пленка, скрутившаяся в темноте, как свернувшийся калачиком зверек. Снимок сделан, но рассмотреть его пока не удается.
Я вижу Саммер с Франком: они исходят по́том, их волосы перепутаны, они связывают тела любовников, как мокрые веревки; повсюду разбросана одежда, на журнальном столике валяются бутылки. Вижу мать: ее лицо искажает гримаса, как будто она получила удар током и, не издавая ни звука, вопит от боли. Как в замедленной съемке вижу отца: он бросается к сестре — она голая, лицо у нее горит, его заливают слезы, на фоне отцовской рубашки она кажется еще более нагой. Вижу его руки на ее бедрах, он сжимает их, на коже у сестры выступают красные пятна. Он держит ее, слишком крепко держит, слишком сильно прижимает к себе; я вижу, как ее грудь вжимается в отцовскую, низ живота прижимается к его брюкам, и у меня кружится голова.
Я склоняюсь над парапетом, мое лицо отражается в темной воде. Плеск от броска камня, история, нашептанная на ухо в постели.
На поверхности бродят тени.
Я вспоминаю фотографию, которую видел в женевской газете «Трибуна»: рыбак бережно, словно новорожденного, держит двухметрового сома. Он не верит своему счастью. Он сидит по пояс в воде на холмике из грязи, еле удерживает свою ношу, а под фотографией написано: «Огромный сом, пойманный в Женевском озере!», «Непонятно, откуда они появились. Кто их туда запустил?» Такая вот фотография, на которую вы долго смотрите, вам противно и интересно.
Читать дальше
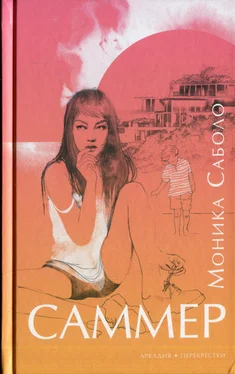

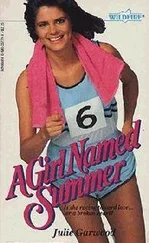

![Хэйлоу Саммер - Истинный принц [litres]](/books/432289/hejlou-sammer-istinnyj-princ-litres-thumb.webp)
![Хэйлоу Саммер - Принцесса пепла и золы [litres]](/books/433813/hejlou-sammer-princessa-pepla-i-zoly-litres-thumb.webp)