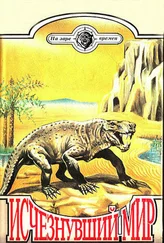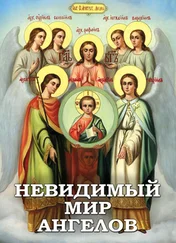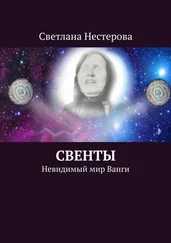Они болтали без умолку, хотя, в сущности, за последние дни, пока они не виделись, не произошло ничего особенного. Подруга вспомнила о пустячном недомогании своего ребенка, как она не спала из-за этого целую ночь, а муж спозаранку побежал за лекарствами. Соня в свою очередь рассказала, что один ее коллега вдруг стал вести себя с нею как-то странно. (Она работала в бухгалтерии торговой фирмы.) Ей показалось, что он собирается предложить ей встретиться.
— Непременно согласись! А что он вообще-то собой представляет? — заинтересовалась подруга.
— Оставь! Толстый коротышка. Да еще и заикается к тому же.
Подруга распалилась и начала горячо доказывать, что все это не имеет значения, если человек хороший, что любовь с первого взгляда — глупость, что отношения складываются постепенно, день за днем, в течение долгого времени… Ну а Соня, так же возбужденно, возражала ей, высказывая об отношениях мужчин и женщин категоричные суждения, какие обычно высказывают неопытные люди, и добавляла добродушно, что легко давать советы другим, когда самой так повезло с мужем.
Потом разговор зашел о прежней их подруге, которую они не видели уже давно. Она всегда была очень сдержанна, очень подтянута и мечтала выйти замуж за немца. После нескольких туристических поездок в ГДР эта мечта наконец-то осуществилась. Теперь от нее приходили длинные письма, и подруги подолгу читали их, а потом обсуждали, делились воспоминаниями.
Муж хозяйки подсел к женщинам — выпить и поболтать. Он был молод, симпатичен, умен, и Соня, сама того не сознавая, стала и говорить и вести себя как-то иначе. Лексикон ее сделался помпезным, неестественным и словно бы подешевел.
Соня завела речь о Франции. Она постоянно утверждала, что это ее любимая страна, любимый народ. Никогда в жизни не встречалась она с французами, язык знала слабо, по-школьному, и не читала книг, где описывается французский национальный характер. У нее были самые общие, расхожие представления об этой стране, волнами разливающиеся по всему миру — чем дальше от источника, тем все более искаженные.
Подруга и ее муж замолчали, а Соня все говорила и говорила. Она призналась, что глаза ее наполняются слезами при одной только мысли, что когда-нибудь она может увидеть Эйфелеву башню. Она все больше увлекалась и твердила, что выйдет замуж только за француза, а если здесь кто-то сделает ей предложение, она откажет. Уют комнаты, успокаивающе-темный цвет мебели, какая-то сценическая уверенность, внушаемая столиком с рюмками и сигаретами, внимательные глаза слушавших ее людей — все это заставляло Соню невольно раздувать свою собственную значительность, выставлять напоказ тонкость своих чувств.
Подруга глядела на нее и в который раз изумлялась этой непредсказуемой амплитуде колебания Сониных настроений. Она точно знала, что у себя дома Соня никогда не говорит ни о чем подобном. И муж ее предполагал, что там, среди близких, кажущихся ей ничтожными, Соня и сама ощущает себя мелкой, ничтожной…
Соня собралась уходить, когда уже стемнело. Погода испортилась, только что прошел небольшой дождь. Подруга и ее муж проводили гостью до троллейбусной остановки. Соня была оживлена более обычного, глаза ее сияли. Супруги вернулись домой, не проронив ни слова. Муж опустился на стул и закурил. Жена собирала рюмки со столика.
Вот сейчас троллейбус остановился у сквера, подумалось ей. Соня все еще весела…
Где-то среди огромных многоэтажных зданий, словно обиженный ребенок, плакала кошка. Подруга представила себе, как Соня идет по аллее сквера — полутемной и пустой. Все давно разошлись, попрятались от дождя. Скамейки излучают тяжкую, тоскливую заброшенность. Она знала, что человек, подобный Соне, обязательно вздрогнет при виде такой вот одинокой мокрой скамейки, слабо освещенной тусклым светом электрического фонаря, при виде скамейки, на которой никто не сидит.
— Ведь она такая добрая, щедрая! — с отчаяньем сказала женщина. — Почему, почему до сих пор никто не почувствовал этого?
Муж молчал.
Перевод Ф. Гримберг.
Андрей проснулся, но на этот раз сон не освежил его. А ведь он спал больше восьми часов. Иногда и во сне человек разговаривает сам с собой — тяжко и серьезно. Андрей знал: его мучило что-то важное, что-то, в чем он не успел разобраться с вечера. Но что же все-таки — не вспоминалось.
Он умывался долго и шумно — жена ушла на работу совсем рано, еще до рассвета. Эти ее ранние уходы всегда причиняли ему боль. И не оттого, что ей приходилось рано вставать, — невыносимо было то, как она едет в самых первых автобусах среди тягостного молчания мрачных, невыспавшихся людей. Жена любила свою работу, наверное, любила и эти уже ставшие для нее привычными утренние рейсы, но в его воображении постоянно вставала картина, о которой он никогда не рассказывал ей: дом с огромной, невиданно огромной неогражденной террасой, даже и не с террасой, а просто с такой открытой звенящей площадью, жена выходит из стеклянных дверей на эту площадь и долго — может, пять, может, десять минут — идет до самого края. То, что она должна увидеть потом, представлялось ему не совсем ясно, все его фантазии вдруг начинали казаться недостаточно красивыми. И все же он знал: там обязательно должно быть небо без солнца, роскошное, усталое, бескрайнее небо, заливающее все вокруг сумеречным сиянием; он воображал себе это небо и огромную террасу и сколько раз, оказавшись на открытом месте, измерял взглядом пространство, но горизонт всегда виделся ему слишком близким. А ему хотелось далекого, очень далекого горизонта, не того, обычного — до леса, до поля, а совсем-совсем другого, объединившего красотой плавных неправильных линий странно разбросанные среди трав и цветов деревья. Хотелось, чтобы земля дышала темной прохладой…
Читать дальше