Абделазиз слушал его, уставившись в пол. Это правда, повсюду сплошное воровство. Обман, эксплуатация, ущемление. Повсюду несправедливость. Вот и тащишь со стройки кусок парусины, чтобы прикрыть свой спальный мешок от дождя, потому что в твоей халупе худая крыша и дождь льет прямо на койку. Это кража. Хочешь выжить – воруй. Это нехорошо, но ты воруешь.
– Можешь мне поверить, – сказал Давид, – ты не первый будешь жить в общаге нелегально! И не единственный!
– А это не опасно? Контроля нет?
Давид расхохотался.
– В добрый час! Наконец-то ты ставишь проблему в должных понятиях. То есть в понятиях соотношения сил, а не морали. Будь спок, старик. Никакой опасности. Потому что никакого контроля. Никакого контроля, потому что – он вскинул голову и выпрямился во весь рост, уперевруки я бока, – потому что мы больше этого не допускаем! Хотел бы я посмотреть, как директор общаги посмеет сунуть сюда свой нос. G этим покончено! Внутренний распорядок отменен окончательно и бесповоротно!
Робкая улыбка стала медленно пробиваться на матовом лице Абделазиза.
– Ты уверен, что полиция…
– Ни в коем случае! И носа не сунут. Я тебе ручаюсь.
– Нам ведь, знаешь, спуска не дают. Мигом в тюрьму. А потом – вон. Проваливай восвояси, бик о !
– Повторяю тебе, – убежденно сказал Давид, – здесь ты ничем не рискуешь. Я беру на себя всю ответственность за твое пребывание в этой комнате.
Абделазиз сделал два шага по комнате, и широкая улыбка, наконец, осветила его лицо.
– Просто невероятно, такое жилье, подумать только! – Голос его зазвенел. – С отоплением! Большое окно! Электричество! Горячая вода! Красивая мебель.
Он ходил взад-вперед по комнате, поглаживая пальцами стол, стул, спинку кровати под красное дерево. Его восхищенные черные глаза оценивали толщину стен, сухой потолок, прочный пол.
– О, Давид, – сказал он глухо, – да это рай!
– Ну, не надо преувеличивать, – покривился Давид. – Здесь тесно, настоящая кишка, обставлено по-дурацки, и посмотри, что за вид – окно выходит на бидонвиль.
Он тотчас спохватился – ну и дурак, что я несу. Но Абделазиз бросил взгляд в окно и простодушно сказал:
– Это мой.
– Мистер Менестрель, – сказал голос миссис Рассел в трубке. – я была так счастлива узнать через мистера Демирмона, что вы соблаговолили дать согласие заняться моими мальчиками.
Голос был мягкий, низкий и музыкальный, но его музыкальность вовсе не походила на снобистскую и салонную музыкальность VII округа, с глубоким грудным «р» и наглым фальцетом, он напоминал скорее мелодию флейты – ни тени аффектации, неожиданные переливы, связанные с английской интонацией и произвольными ударениями то на первом, то на последнем слоге (мистер Менестрель, мистер Демирмон), но замечательнее всего была его мягкость (жесткий и властный голос госпожи матушки!), подчеркнутая полным отсутствием «р» и «ю», выговариваемым как «у», что придавало речи миссис Рассел что-то детское. И подумать только, что этот голос принадлежит миллионерше, а ведь богатые женщины, как правило, говорят надменным тоном, эти спотыкания, эта девичья робость в голосе миссис Рассел просто очаровательны.
– Мистер Менестрель, если вы позволите мне злоупотребить вашей любезностью, мне хотелось бы попросить вас о чем-то, но я умоляю вас, откажитесь без стеснения, если это вас в малейшей мере обременяет: не могли бы вы начать сегодня же вечером?
– Ну конечно, – храбро сказал Менестрель, – охотно, сегодня же вечером, если вам угодно.
– Но откровенно, мистер Менестрель, может быть, такого рода экстренная мобилизация ставит вас в затруднительное положение, я прошу вас, скажите мне откровенно, вы, французы, так учтивы, быть может, у вас на сегодня намечен серьезный труд, может, вы заняты важной работой?
– Нет, нет, – сказал Менестрель, – ничего срочного, я вполне могу начать сегодня, я совершенно свободен.
– О, мистер Менестрель, в таком случае я счастлива, не могли бы вы прийти к девяти часам? Мы вместе поужинаем, побеседуем о мальчиках, это для меня такая трудная проблема.
Менестрель слушал, флейта звучала жалобно и доверчиво, она взывала к его помощи, она говорила с ним как с другом, это просто неслыханно, она очаровательна, она забывает, что будет мне платить.
Войдя к себе в комнату, Менестрель увидел, что Бушют ушел, оставив после себя свой запах и еще более потемневшее и расползшееся пятно на стене. «Ну и бушютит здесь», – сказал Менестрель вполголоса, подходя к окну и распахивая его во всю ширь. Взгляд его упал на записочку, лежавшую на столе. Самописка, карандаш и шариковая ручка были разложены вокруг, как стрелки-указатели, он схватил записку, почерк Бушюта.
Читать дальше


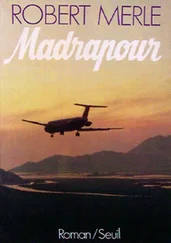

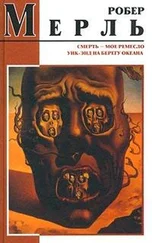


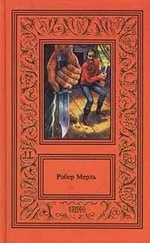



![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)