2
Почти два месяца жила Бьянка в доме у Ивана Сергеевича. И уже начала забывать запах матери, вкус казённого варева и руки Девушки Антонины. Сам питомник с его ветлой, колючей проволокой, листом железа, гудящего на ветру, вспоминала не часто. Жизнь её теперь была совсем другая – комфортная. Но одинокая.
Квартира, в которой обитал ветеринарный врач Форстер, располагалась не в городе, а за его чертой, в так называемом посёлке городского типа. Здесь, как и в настоящем городе, имелись все его признаки: поликлиника, милиция, баня, кладбище и даже городская администрация, но дома были невысоки, нравы проще, а люди друг другу – ближе. Квартира Ивана Сергеевича как раз и находилась на втором этаже сооружения постройки сорок восьмого года, возведённого в те давние года немецкими военнопленными, а оттого добротного. Правда, без должного ухода и заботы даже немецкие постройки превращались со временем в родные до боли руины. От многих снегопадов и дождей краска фасадов облупилась, подновляли их без соблюдений порядка и технологий уже не меньше десяти раз, так что дома выглядели какими-то тошнотворными, муторными. Балкончики с цементными балясинами местами рассыпались, иные – местами проросли травой и даже деревцами, а один так и вовсе рухнул на землю, оставив после себя гнутую ржавую арматуру, кусок швеллера да светлое пятно правильной формы на прежнем его месте. Двери подъездов скособочились, многие не закрывались, отчего внутри за ними было зябко, пахло мочой спешащего мимо люда, плесенью, помойкой и влажным духом парового отопления.
Двухкомнатная квартирка Ивана Сергеевича, впрочем, гляделась совсем не так грустно, а местами казалась даже уютной. Свой вклад внесли в неё покойная матушка ветеринара, а затем жена – цыганка из города Кишинёва. Именно две эти ушедшие в небытие женщины неистово белили потолки, красили блестящей эмалью оконные рамы, циклевали дубовый паркет и крыли его вонючим лаком. Развесили затем на стенах гуцульскую керамику и армянскую чеканку. И задрапировали скучный промышленный пейзаж воздушной индийской органзой. Вечерами они наполняли комнаты тёплым светом настольных ламп и абажуров. Днём увивали стены изумрудными кистями тропических лиан и глянцевых листьев разлапистых фикусов. А воздух наполняли жирными запахами украинского борща с чесноком и румяными пампушками, жареных домашних котлет и ароматами абхазских лимонов. Они делали главное, что могла сделать женщина в доме – исступлённо и каждодневно наполняли его жизнью и смыслом.
Когда этих женщин не стало, квартира Ивана Сергеевича начала приходить в упадок. Исчезли запахи пампушек с чесноком и абхазских лимонов. Увял фикус, иссохли до безжизненных плетей тропические лианы. Потрескалась белая эмаль оконных рам. Истончилась до паутины, а кое-где и порвалась индийская органза.
Иван Сергеевич ходил сюда только переночевать. В выходные бежал прочь – в захламленный городской парк или к редким друзьям-товарищам. Осенью и весной – на охоту, на берега родной Паденьги. Только бы не дома, только бы не в одиночестве, которое съедало его изнутри. Он и лаечку-то взял по той же причине. Именно он назвал её Бьянка, что по-итальянски означало Белая. Давным-давно, во времена студенческой юности студент Форстер увлекался итальянским Возрождением и до сих пор помнил кое-что из этого певучего языка.
Жизнь в человеческой квартире пришлась по душе Бьянке с первых минут её переезда. Правда, здесь не было матери и братьев, не было прежних весёлых игр, тепла бескорыстной любви. Главное – не было их запаха, отчего лаечка первое время поскуливала и даже несколько раз пускала слезу. Зато в её жизни появилось много нового. Два раза в день – утром и вечером – они с хозяином гуляли. Иван Сергеевич надевал ей кожаный ошейник, цеплял поводок, и они спускались на улицу. И каждая прогулка оборачивалась для Бьянки чредой необыкновенных открытий. Тысячи новых запахов врывались в её чуткий нос, когда хозяин открывал скрипучую дверь подъезда. Сотни образов, предметов и живых существ перебегали дорогу, сновали мимо, останавливались или стремительно падали вниз.
Так она познакомилась с голубями, которые ни в какую не хотели подпускать её к себе. Со старым бульдогом из соседнего подъезда по имени Бернард Шоу, который всякий раз очень деликатно нюхал у неё под хвостом, всякий раз говорил: «Простите» и с задумчивым видом члена аристократического клуба удалялся по своим неотложным делам. Обнаружила она источающую целую палитру чарующих ароматов местную помойку, которую охраняла армия злобных крыс, два плешивых кота и старая беспородная сука, готовая разорвать каждого, кто подступится к владениям. Тут же, шагах в ста от помойки, возле автобусной остановки Бьянку встречал старый татарин Алим: у него здесь размещался собственный «бизнес» – крохотная будка, наполняющая воздух окрест жирным запахом гуталина, кожи, красок и крепко заваренного чая. С утра и до позднего вечера татарин чистил местному населению сапоги да ботинки, подбивал стальные набойки на каблуки, занимался мелкой починкой, торговал разноцветными шнурками и заграничными средствами, позволяющими держать обувь в чистоте и порядке. Алим носил на голове чёрную татарскую тюбетейку с шёлковой кисточкой, передник из грубой дерюги и тёплые самовязаные носки, которые не снимал ни зимой, ни летом. Руки его были вечно черны, но глаза добрые, улыбающиеся. Завидев Ивана Сергеевича и Бьянку, старый татарин выбирался из своей будки и приветливо кланялся обоим. И непременно дарил Бьянке какой-то малый гостинец: печеньице, кусочек сыра или вишнёвую карамель. «Какой же красивый у тебя собак, Иван Сергеевич, – цокал языком старый татарин, – ну, чисто снег!» Алим и сам всю жизнь держал собак. Но теперь, на склоне лет, оставшись совсем один, он боялся заводить себе нового друга. Знал, что, скорее всего, умрёт раньше. И не хотел оставлять его сиротою.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





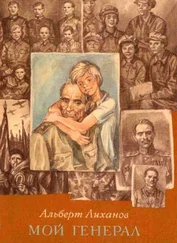


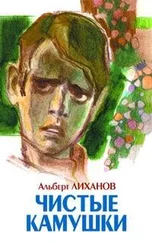
![Дмитрий Лиханов - Звезда и Крест [litres]](/books/437533/dmitrij-lihanov-zvezda-i-krest-litres-thumb.webp)
