Рождество я провела в одиночестве перед телевизором, а Новый год встретила на крыше Эмпайр-стейтбилдинг. И когда отгремел фейерверк, подумала, что если сейчас шагну вниз, буду первой. Насколько мне известно, отсюда еще никто не прыгал. Впрочем, мне вовсе этого и не хотелось. Так, подумалось просто. Но я вдруг поняла, насколько одинокой, чужой ощущаю себя среди собравшихся здесь людей, празднично одетых, как и я, с бокалами шампанского в руках, которые радуются друг другу и счастливы, оттого что встречают Новый год в столь экзотическом месте. Или по крайней мере пытаются быть счастливыми. Я даже не пыталась. Просто стояла и смотрела на фейерверк, словно это был спектакль провинциального театра, который я, будучи бургомистром, сенатором или кем-то в этом роде, обязана посетить. Дочка Нерона, попросившая отца поджечь ради нее город, — он поджег, а ей скучно, и нет ни желания, ни сил любоваться пожаром. Тут я заметила в толпе Сиднея с женой, и настроение испортилось окончательно. Из-за них и немножко из-за себя.
Последние ночи перед смертью отца я провела у него. Мне там поставили кровать, завтракала и обедала я в больничном кафе, а душ принимала в душевой для персонала. На этом свете отца отныне удерживали лишь питательные вещества, вводимые внутривенно, и приборы, контролирующие сердечную деятельность. Еще находясь в сознании, отец в присутствии Эзры и меня запретил любые мероприятия по искусственному продлению жизни и теперь двигался навстречу смерти.
Несколько раз за ночь я просыпалась с ощущением, что слышу его предсмертный вздох. Он храпел, иногда довольно громко, но попискивание монитора не умолкало. В ту ночь, когда отец умер, меня разбудил пронзительный монотонный звук, и я тотчас поняла, что это — конец. Закрыла ему глаза, скрестила на груди руки, еще до того как в палату пришла медсестра, а почти сразу за ней — врач. В тот момент я не чувствовала горя. Просто мысленно попрощалась с ним и сказала, что люблю его. И сразу ушла домой — не хотела видеть, как отца перекладывают на каталку и везут вниз, словно вещь. Вещь, прежде бывшую человеком.
Джек и Эзра помогали мне во всем. Точнее, они-то и делали все, что нужно, а мне только время от времени приносили какие-то бумажки на подпись. Оба чуть ли не радовались тому, что самое тяжелое позади. Друга не вернешь, и теперь следовало решить практические вопросы. Меня это не раздражало, я ведь и сама, признаться, ощущала облегчение, а тоска, что периодически накатывала на меня, была в значительной степени замешана на моей жалости к себе, отец — содержание и смысл моей жизни в последние месяцы — лежал в гробу, и отныне мне самой предстояло решать, что делать дальше и где жить. Я казалась себе очень одинокой. Но не так, как с Калимом. С ним к этому чувству примешивалась боль. А сейчас только страх перед пустотой.
В день похорон друзья отца утратили вдруг свою энергию. Эзра, казалось, вот-вот заплачет, Джек молча застыл у могилы и внимал проповеди священника с отсутствующим видом. Когда гроб опустили в землю, Эзра громко взвыл, его отчаяние передалось мне и вывело из оцепенения: все поплыло перед глазами, я зарыдала.
От могилы нас уводил Джек. Одной рукой обнимал Эзру, другой — меня, поддерживая и направляя, показал путь к выходу.
— Хочется побыть одной, — сказала я через несколько шагов и ощутила его руку на своем на плече.
Эзра поцеловал меня в лоб и попросил в ближайшие дни зайти к нему по поводу завещания. Джек вежливо протянул руку и проговорил:
— Тебя он любил больше всего на свете.
Я осталась на кладбище, наблюдая за могильщиками, как они забрасывают могилу землей, и в какой-то момент перестала плакать. Может, просто иссякли слезы, но скорее всего их равнодушная работа вернула меня к реальности, где отныне не было отца.
Могильщики уехали, я снова подошла к могиле и села на скамейку. Не знаю, сколько времени прошло, и не могу сказать точно, о чем тогда думала. Но кое-что все-таки помню. Я думала, что вот отец лежит сейчас на глубине метров двух подо мной, словно какая-нибудь вещь, которая вскоре сгниет. А ведь еще совсем недавно он был моим последним родным человеком на этой земле. И когда он еще не был вещью, то любил меня больше всего на свете…»
Джун спала. До сих пор мне не приходилось видеть, как она спит. Я встал, чтобы ополоснуть лицо, по пути в ванную бросил взгляд на ее окна и остолбенел, поняв, что она, по-прежнему без одежды — купальная простыня не в счет, — лежит на своей кровати. Коленки ее едва не касаются подбородка, а ничем не прикрытые ягодицы обращены прямо ко мне. Я видел тень, где начинаются ноги, будь у меня подзорная труба, не устоял бы и воспользовался ею. Интересно, это опять специально для меня или просто простыня задралась кверху, обнажив ее бедра? С большим трудом я все-таки отвел взгляд.
Читать дальше
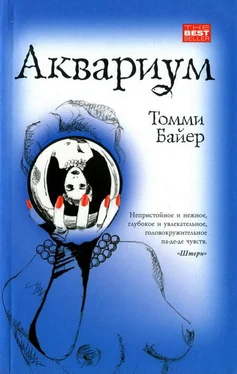





![Томми Яуд - Ни хрена я не должен! [Манифест против угрызений совести]](/books/390432/tommi-yaud-ni-hrena-ya-ne-dolzhen-manifest-protiv-u-thumb.webp)





