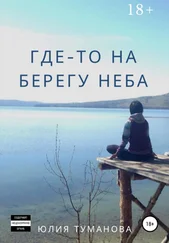Это был воистину Судный день.
Я был безработный, которому срочно надо было искать работу, но именно этого я и не делал: я не хотел быть измельченным до последней горстки опилок в станке вечно «перенастраивающихся» массмедиа. Я хотел еще пожить. В эти дни я вел странную жизнь, все делая так, как будто дети не уехали и жена по-прежнему со мной, и только так находил в себе инерцию и даже радость жизни, представляя, что дети – они совсем еще маленькие, как тогда, когда мы с ними строили шалаш и пускали по воде кораблики; и это для них я сейчас складываю поленницу дров, кошу траву, нахожу и притаскиваю откуда-то глину, чтобы замазать коптящую печь… И когда я представлял, как же я жил все эти годы, пока они росли, а я все делал какую-то «работу», которая, в конце концов, и доконала меня, то, выяснялось, что ничего такого особенного в этой работе не было, все это было говно, а были только Санька, Фроська и Глаша, моя жена… И тогда я спрашивал себя: «А чем же я жил, пока их в моей жизни не было? Вот в юности?» И выходило, что без них пустовала душа, ждала, а всякие танцульки там, девчонки, музыка, «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», выпивка с ребятами – это все так, ерунда была, молодость…
Странный прожил тогда я месяц.
В тот месяц я вдруг понял, почему мой дед всегда выдирал старые гвозди из досок; при этом у него был вид, как у самозабвенно занятого своим делом медведя, и когда гвоздь со скрипом подавался, дед скалил свои желтые зубы и в глазах его светилось какое-то древнее торжество.
Гвозди во множестве лежали в старом, красном брезентовом чехле деда: там были и новые гвозди маслянистые и уже побывавшие в деле, повытасканные из заборов, из крыш, из сараев; дед старательно их выпрямлял, и тут я понять его не мог: старые выпрямленные – они некрепкие, и если сразу не вогнать такой гвоздь, то он обязательно загибался вновь, а я, чувствуя досаду на себя и на деда, без всякой пощады так и вминал его в доску.
И вот однажды, разбирая старый покосившийся сарай, я вдруг понял, что дело не только в результате и даже не столько в нем, но и в самом неуклонном, торжествующем и неспешном усилии, с которым раз добытое и погибшее было вещество жизни извлекается обратно из своих теснин: вот не хочет этот старый, ржавый гвоздь выходить – и ты аккуратными ударами молотка подаешь его назад, а потом прихватываешь плоскогубцами и попросту наматываешь его на щипцы, как червяка, засевшего в своей норе, а потом отстукиваешь вновь до прямолинейного состояния, испытывая необъяснимую радость.
Конечно, всем нам, ныне живущим в эпоху изобилия, трудно понять, зачем нужно было собирать все эти гвозди, бревна, оконные и дверные петли и создавать себе из этого даже нечто вроде похоти, целые чуланы и сараи забивать этим хламом. У деда ни чердака, ни чулана не было, был только красный, брезентовый мешок с выпрямленными гвоздями: но он знал время, когда добротного, оформленного вещества было очень мало, когда все было разбито, изржавлено и сожжено войной, и не то что гвоздей или пуговиц, сукна или просто одежды, а самого дрянного собачьего мыла не было. Оттого-то у людей того поколения, к которому принадлежал мой дед, к вещам было особое отношение: если уж вещь не погибла, обнаружилась-спаслась, ее обязательно нужно сохранить и пустить в дело; к вещам было отношение, как к людям, к солдатам. Если не убит – значит, годен, или хоть годен к нестроевой, или в запасе – но все равно не вычеркнут из жизни насовсем.
Дед чувствовал могучую, умелую силу своих рук и радовался ей, радовался тому всеохватному порядку, который организуется ею, когда старая гвоздоватая доска перестает быть старой гвоздоватой доской и готова опять в прямое дело – не цеплюча и не опасна.
Лишь выдирая гвозди из порушенного мною сарая, я тоже понял, что этим поддерживаю какое-то осторожное равновесие мира. Не сразу понял. Поначалу-то я этот сарай сжечь хотел, и гвозди мне были не нужны, а вот кругляк, из которого он был построен, кругляк и доски – нужны как дрова. Скоро уж должны были вернуться ко мне мои дети, и мне никак нельзя было оставить рядом с дачей груду ощетинившихся ржавыми гвоздями досок. И тут я впервые, похоже, сделал работу, как дед.
И только сделав, понял его; я понял, что таилось в его неторопливой старательности, в том, что даже раздражало меня как мальчугана, чересчур уж резвого: дед не хотел выбрасывать в мир порченое, как сейчас это принято, – он спасал вещи, спасал до конца, как людей, как раненых товарищей. Может быть, поэтому и мир тогда был чище.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу