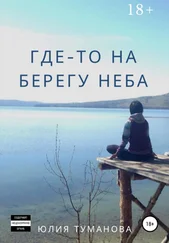Летом он всегда отправлял свою семью из Москвы сюда, под Рязань, и они жили там, в деревне, питаясь от огорода, в деревне, какой-то жизнью, бедной и простой, во всяком случае Алешка любил это место, и в его рассказах выглядело оно даже романтическим. Но никто никогда не бывал там, где переживала свое бедняцкое счастье его добрая семья. Когда они уезжали на зиму, дом грабили, а летом они возвращались и снова питались от земли, снова наполняли дом каким-то скарбом… Таким вот круговоротом все и шло, и все же это была, наверно, счастливая жизнь, потому что они все время сюда возвращались.
Я слышал, что дом стоит на окраине села, и представлял себе деревню: вполне среднерусский пейзаж и, следовательно, деревянный дом, стоящий на взгорке, лицом на улицу, с огородом и тыквами-горляночками желтыми, которые Алеша привозил из своих южных пределов. Теперь вышло, что дом кирпичный и стоит, затерявшись в бурьяне, не бог где, в самом конце села, лицом в голую степь. Только шаткий забор ограждает дом от степи. За ним – видимость палисада, рядом – из бурьяна торчала крыша другого дома, и не было ничего, кроме бурьяна, линии ЛЭП и дикой неряшной степи, вдалеке во весь горизонт перекрытой лесопосадкой.
А потом, наплакавшись, Таня пригласила нас внутрь, и мне, хоть и был я вполпьяна, это уже не помогало: там кровати были расстелены, и видно было, что день-два назад на этих кроватях еще кто-то лежал, считал их своими, и белье было смято, как будто эти люди только что были здесь, только что встали и куда-то ушли – но только все они умерли, и осталась только жуть и пустота в этом доме, зияющая пустота, которой было не заполнить нам, чужим, приехавшим на помощь волею случая, на место тех, кто умер. Они были где-то рядом, что и ощущалось, как жуть. Татьяна походила по серым неприбранным комнатам и поплакала, все повторяя: «Девочки мои, девочки мои». Но потом предложила нам чаю и поставила чайник на плиту. Всем было странно трапезничать в этот ранний час, слишком ранний, чтобы предпринимать действия и чтобы есть. Миша, выполнив свою миссию шофера, чувствовал себя совсем растерянно, да и Лизка как-то посерела и обтянулась кожей. Я был один, кто заварил себе лапши «Доширак» и съел ее, ибо понимал, что выпил и выкурил слишком много. Позади была бессонная ночь, а впереди день длиной в тысячу миль – и я понимал, что было бы просто гадством в такой день умереть на жаре с перепоя. Я съел всю лапшу, хотя ни у кого кусок не лез в горло и, выпив чаю с сахаром, даже почувствовал, что малость отпустило. На запах моей еды пришла только собака Джек – любимый семейный пес крупной дворняжечьей породы, старый и слепой к тому же на один глаз. Джек. И глядя на эту собаку Джека, ясно становилось, что жили они тут в прекрасном взаимопонимании и в терпимости к болям и слабостям ближнего своего – очень хорошие люди. Они и Джеку прощают, что он не чао-чао, и Алеше тоже прощают… Прощали… Все прощают, что умеют. Здесь и неказистость прощают, и нескладность судьбы – очень многое из того, что мы в нашем мире прощать просто не научены…
И я подумал, что, наверно, лягу не на постели мертвых , а там, где живет Джек, – там стоял маленький такой диванчик, на котором он спал. Я принял снотворное, опрокинулся на этот диванчик и уснул где-то на час.
Во всех подробностях этой истории не вспомнить, да и незачем вспоминать, уже часов пять-шесть, наверное, было, солнечная роса блестела в бурьяне, а Татьяна вдруг стала как безумная, кутаться в куртку, хорошую, хоть и перепачканную всю осеннюю куртку, и повторять: «Ну, теперь надо туда ехать… туда… девочек наших искать… ведь им холодно там… холодно…» А я вышел на улицу, сел на мусорную кучу, посмотрел на линию электропередач в замусоренной бурьяном степи и закурил сигаретку. Подумал, что если сейчас не сдохну, то не сдохну и потом. В общем, это было нелегко, но я оказался живучее, чем сам про себя думал. Потом все это началось, чего я боялся. Мы сели в Мишкину машину и мимо бурой прошлогодней скирды, похожей на горб мамонта, высокой речной террасой поехали к берегу. Река была дикая, по сторонам заросшая бурьяном, ивами, вьюнком, цеплючей травой. В одном только месте сход был приличный – это то самое место с пляжиком, где они обычно и купались, «их» место. А в тот день, как назло, здесь стояли машины и они дальше проехали.
Чувствую щемящую боль, чувствую безропотность и всеуступчивость брата. Другие бы поскандалили и прогнали чужих со своего места, скандалить бы точно начали – а он уступил. Таких людей больше нет. Они вывелись, остались одни какие-то бультерьеры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу