Только во сне она возникала передо мною вся, немыслимо близкая, — и, просыпаясь на рассвете, я был угнетен стыдом и физическим ощущением уже совершившегося греха и тяжелого, изнурительного счастья.
Жизнь ее была эфирна и таинственна. После лекций, легко сбегая в толпе подруг по старой парадной лестнице аудиторного корпуса, Светлана- назову ее этим именем, модным в те годы, — исчезала в недоступном для меня мире, полном света и музыки, и на другой день я ревниво искал исподтишка на ее лице отсвет ее неведомых приключений. В сущности, я не знал Светлану: она была для меня гораздо больше символом женственности, чем знакомой девушкой. Чутьем она понимала это и, польщенная, не питала ко мне слишком теплых чувств. Девушки этого возраста и социального круга, насколько я могу судить, редко увлекаются сверстниками, которые кажутся им детьми. Думаю, что она забывала обо мне начисто, как только я исчезал у нее из виду; однако случилось так, что она сама позвонила ко мне домой и пожелала со мною встретиться. Это произошло в последних числах июня или первых — июля, в самом начале студенческих каникул.
Не стану утверждать, что этот год был отмечен особым знаком. Помню ужасную жару, светлые, пожалуй, слишком светлые для нашей полосы ночи в июне. С утра каблуки женщин отпечатывались на асфальте, солнце играло в тысячах стекол. Газеты пестрели некрологами, посвященными умершим от кровоизлияния в мозг. А по ночам над городом мерцал загадочный зодиакальный свет.
Как сейчас вижу поздний вечер, пустую комнату- родители уехали на дачу, — за столом неподвижную спину высокого, сутуловатого молодого человека и затылок с косицами волос. Это я. Передо мной, опертая на хлебницу, стоит книга Ганса Фаллады «Каждый умирает сам за себя».
(Русскому читателю эта книга известна под названием «Каждый умирает в одиночку»).
Как вы помните, в ней рассказывается о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и потому тот, кто их произносил, был обречен заведомо, с самого начала. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован тайной полицией.
В этот день я с утра читал этот роман, которому суждено было сыграть какую-то неясную, но очень важную роль в моей жизни, и находился под сильным впечатлением от него.
Тыча вилкой мимо тарелки, я дошел до того места, когда комиссар объясняет, что бывает с теми, кого схватит гестапо. (В эту минуту раздался телефонный звонок.)
«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы, и ты будешь все время смо-феть на него и изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они будут непрерывно допрашивать тебя, они будут меняться, но тебя никто не сменит, как бы ты ни был измучен. А когда ты упадешь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя соленой водой, а когда…»
Телефон звонил и звонил в коридоре, он надрывался, как плачущее дитя. Я бросил вилку и пошел из комнаты.
«Да», — сказал я раздраженно. И вдруг услышал голос Светланы.
В моей ладони, под ухом у меня шевелился этот тихий, прелестный голос, как будто прилетевший с другого края вселенной, а я стоял и слушал с внезапно и безумно забившимся сердцем. Я стоял, и голова моя шла кругом. «Да, да, — пролепетал я, — я слышу тебя, это я… Ты разве в городе?» Она ответила, что не может долго разговаривать: она звонит из автомата. Да, она не уехала, планы расстроились. Ей скучно.
Ей скучно! Ей нужен я! Повесив трубку, я понял, что моя жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Я воротился в мою пустую комнату и, не зная, за что взяться, прошагав битый час из угла в угол и кругом стола, уверился наконец в том, что меня любят. Что еще мог означать этот неожиданный звонок, эта смелость, с которой она, поборов стыд, сама сделала первый шаг, этот волнующийся — сам слышал — голос! В тарелке лежали остывшие макароны, раскрытая книга осталась стоять перед хлебницей. Настроение переменилось, и ничто из того, о чем я думал час тому назад, больше меня не занимало. Полицейский комиссар умер, кого теперь интересовал вкрадчивый шорох его речей? В первом часу ночи под орызжущим светом оголенной лампы я уселся бриться, потому что одним из предрассудков моего мужского кокетства было убеждение, что для того, чтобы нравиться, нужно быть чуточку небритым.
Утром, заложив руки под голову, я предавался сладким и волнительным грезам. Мысленно я произносил длинную речь, в которой признавался ей, молча и страстно слушающей, в своих чувствах. За этим объяснением последовала яичница, я проглотил ее в полной прострации.
Читать дальше



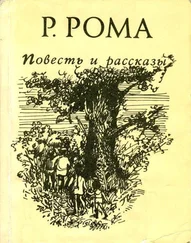
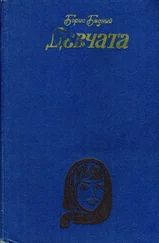



![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)


