«Ты же католичка», — возразил я, показывая глазами на крестик у нее на шее.
«Католичка, да. Одно другому не мешает».
«Ты говоришь о…?»
«Я говорю о том, что ты принял причастие. Ты причастился божественной головки Теонанакатля».
Я рассмеялся.
«Ах вот оно что. Уверяю тебя, все гораздо проще. У меня есть один знакомый. Будущее светило психофармакологии».
«И я знаю, — продолжала она, пропустив мои слова мимо ушей, — что тебя снедает желание, не зря мы здесь с тобою наедине…»
«Донья Соледад, — пробормотал я, — такая мысль не приходила мне в голову, то есть, я не решался об этом подумать… но если этого требует обычай… отчего бы нам не попробовать…»
«А ты уверен, что у тебя получится?» — быстро спросила она.
«Уверен? — проговорил я, несколько сбитый с толку. — Конечно».
«Вот видишь. Бог вселился в тебя. Ты охвачен вожделением. Но ты — это не ты. В сущности, тебя уже нет».
Мне показалось, что она смотрит на меня с насмешкой; я спросил:
«А… там об этом тоже написано?»
«Где — там?»
«В хронике этого монаха».
«Не знаю, о чем ты говоришь. Не знаю никакого монаха. Хорошо, — сказала она сурово. — Тебе надо выйти. Я должна раздеться».
Я стоял у окна в вагонном проходе и смотрел в темноту. Стоял тот, кем я был. Сейчас, думал он и думал я. Сейчас войду и увижу ее антрацитовые глаза. Ее смуглую кожу при свете ночника. Почти непроизвольно, подчиняясь зову, который был сильнее меня, я взялся за ручку купе, посмотрел в обе стороны тускло освещенный вагон слегка пошатывался, что-то свистело вдали, это летел встречный поезд — и надавил ручку. Мне показалось, что купе закрыто изнутри. «Донья Соледад…» — тихо сказал я. Ворвался свист. В окнах гремело и мелькало.
«Это я. Откройте…»
И дверь открылась. В купе никого не было. Исчезли ее вещи, не было альбома на столике с ночником. Обе полки, аккуратно застланные, ожидали пассажиров.
Странно сказать: я был разочарован, удивлен… но не очень. Я вышел в тамбур. Отворил дверь. Дождя не было.
Поезд несся вперед, не сбавляя скорости, и вместе с тем (чему тоже не следовало удивляться) я видел внизу под вагонной площадкой неподвижную насыпь. Я сошел на насыпь. Поезд стал удаляться. Ветер разогнал тучи, в черном небе стояла серебряная луна. Оглянувшись, я с трудом мог различить вдали мачты железной дороги. Остался позади овраг. Я перемахнул через стену.
Меня занимал вопрос, как я доберусь до веревки, но кто-то уже позаботился об этом, к стене цитадели была прислонена лестница. Я протянул руки, стараясь не свалиться с шаткой лестницы, поймал конец, оттолкнул ногой лестницу и закачался на веревке. Над собой я видел висящую раму. Сколько-то времени спустя — это далось мне не без труда — я добрался до окна. Ни о какой галлюцинации не может быть и речи; все это время я владел собой.
Я уже понимал, что меня не успели хватиться, так как со времени моего побега прошло едва ли больше двух-трех минут. Подтянувшись из последних сил, я схватился одной рукой за остаток решетки, перевалился через косой подоконник и рухнул на пол камеры. Оставались сущие пустяки: подтянуть раму и вставить на место решетку.
Повесть ни о чем
Время от времени я вспоминаю об этом, но не в силу определенной последовательности мыслей, как, например, побрившись, вспоминают, что пора завтракать; безо всякого повода, без напоминания, на работе, дома или в толпе, с бесцеремонностью нежданного посетителя осеняет мысль о потусторонних силах.
Сразу же оговорюсь, что я вовсе не имею в виду политическую сторону дела. То, о чем идет речь, — это отнюдь не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не те многоярусные громады без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придает им сходство с колумбариями. Суть дела не меняется оттого, что в разное время Силы принимают облик того или другого навязанного извне террора, и медиум не тождествен голосу, который вещает через него. Став, таким образом, на точку зрения, близкую спиритуалистической, я рискну утверждать, что не причина породила следствие, а следствие, если можно так выразиться, конструирует причину.
Очевидно, — для каждого когда-нибудь наступает минута, когда перед ним, так сказать, рвется пополам покрывало Майи и он оказывается лицом к лицу с леденящей очевидностью факта. Боже милосердный, как же мы были молоды, когда это случилось с нами! Предыдущее поколение было искалечено войной, мы же с молодых ногтей были ранены страхом, мы пропитались им, он стал нашей сущностью и нашим ежеминутным бытием. И, однако же, никого из нас не убили: мы живы и тянем попрежнему нашу жизнь — лишь уверенность, что мы слышали трупный запах, никогда не покидает нас.
Читать дальше



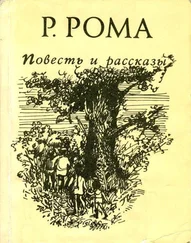
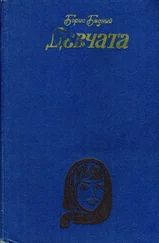



![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)


