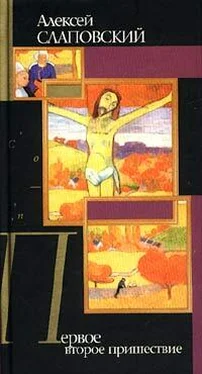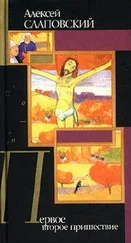Гавриилов засмеялся и угостил его справа — но так, чтобы тот не упал и имел возможность говорить. Гавриилову интересно стало послушать старика.
— Допустим, вы бьете преступника и злодея! — не смутился Иван Захарович. — Но исправите ли вы его побоями? Нет, он лишь озлобится и нанесет обществу еще больше вреда!
Внучко угостил его слева.
— В чем смысл побоя, удара как такового? — светлея ликом, воскликнул Иван Захарович. — В том, чтобы причинить боль! Но сравнима ли эта боль с той духовной болью, на которую человек обрекает себя сам, а паче всего — бьющий?
Гавриилов приложил его справа.
— Следственно! — почти в восторге закричал Иван Захарович (мысленно блаженно вопя: «Спасибо, Господи, за Тебя страдаю!»). — Следственно, битье — всякое! — есть действие бессмысленное! Лишь то действие человека имеет смысл, каковое улучшает природу человека, битье же избиваемому пользы не приносит, оно ему не нужно! Оно необходимо кому? — бьющему! Вывод: бить кого-то или тыкать кулаком стену — нет никакой разницы! Тычьте кулаками в стены, милые, результат тот же!
Внучко, обиженный предложением тыкать кулаками в стену, приложил старика слева посильней прежнего, Иван Захарович упал.
— Пусть отдохнет, — сказал о нем Гавриилов и шагнул к Петру.
А Петр в это время — конечно, не подробно, а промельком в уме — вспомнил, как его впервые поразила несвобода.
До семи лет ничего не стесняло.
Но вот он пошел в школу.
На одном из первых уроков учительница решила проверить память детей и задала учить маленькое стихотворение, чтобы потом тут же, на уроке, его рассказать, а сама в это время писала письмо в Салехард Алексею Рудольфовичу Антипову, красавцу и умнице, с которым она полгода назад ехала до Полынска от Сарайска, и тот успел объяснить ей свою жизнь, и оставил адрес, и вот они переписываются (а через полгода, желая сделать ему сюрприз, она поедет в Салехард и найдет Алексея Рудольфовича в окружении жены, детей, забот и мирных трудов, а вовсе не в одиноком несчастьи, — и ее навсегда оставит романтическое представление о жизни).
Петруша первым выучил стихотворение, поднял руку, рассказал — и пошел из класса.
— Куда это ты? — спросила учительница.
— А я всё.
— Ты-то всё, да другие-то не всё!
— Ну, пусть сидят, — рассудил маленький Петруша.
— И ты сиди.
— Зачем?
— Будешь слушать, как они отвечают.
— А чего слушать-то одно и то же?
— Сядь, я сказала! — исчерпала разумные доводы учительница.
— Зачем?
— Затем, что идет урок и с урока не уходят!
— Почему?
— Потому что ты школьник теперь, а не кто-нибудь.
Учительница сердилась: письмо было прервано на интересном моменте, — она доказывала Алексею Рудольфовичу, что, даже не имея друзей близ себя, можно не чувствовать себя одиноким, если есть где-то, пусть даже и вдалеке, тот, кто помнит о тебе, а ты помнишь о нем…
А Петруша все стоял у двери.
— Ты сядешь или нет? — злилась учительница.
— А на кой?
— Не «на кой», а зачем?
— Ну, зачем?
— Заниматься, как и все.
— Все учат, а я выучил уже.
— А вот расскажем, другое задание будет.
— Скажите, сделаю.
— Слушай, Салабонов! Закон школы такой, что ученик слушает учительницу. Ты должен меня слушать.
— А я слушаю.
— Так садись!
— Я и стоя слушать могу.
— Дурак! — взорвалась вдруг учительница. Горько ей сделалось и обидно: так хорошо начиналось утро, так светло было на душе, а теперь явственно открылся ей мрак грядущего года, наполненного мероприятиями по воспитанию дуболомистых детей железнодорожников. Она вскочила, схватила Петрушу за плечо и поволокла его к парте, усадила его обеими руками, словно желая навечно приклеить к сиденью.
Но едва отошла — Петруша вскочил и выбежал.
Уговорили его пойти опять в школу лишь через неделю.
Потом он, конечно, попривык к условиям несвободы и в школе, и, само собой, в армии; он привык опытом, но душой и умом так и не понял. Однажды он читал историческую книгу про Италию, и ему очень захотелось в Италию, но вдруг он понял, что скорее всего никогда не попадет в Италию, — и даже заплакал…
Вот теперь мучает и жжет душу вопрос: почему он здесь, а не на воле?
Почему нельзя объяснять этим людям, что ему невозможно здесь находиться, что от этого и ему, и им будет только хуже?
И эта мука была в Петре сильнее страха боли и даже страха смерти (впрочем, последнего страха он никогда не имел).
— Ты меня лучше убей, сержант, — тихо сказал он приблизившемуся Гавриилову.
Читать дальше