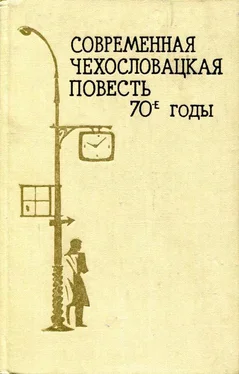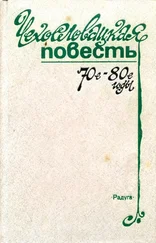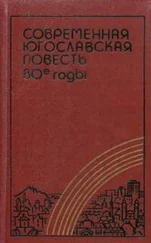— Не понимаю, — ответил я и с такой силой потер руки, что хрустнули суставы.
— Все ты понимаешь. — Смолин с усмешкой глянул на меня утомленными глазами.
Он поднял очки на свои черные, кудрявые волосы и таким вдруг показался беззащитным и правдивым, что мне прямо совестно стало иметь собственное мнение.
Смолин не любил брать быка за рога, он как бы опасался обнаружить, что у него на уме. Говорил он убедительным тоном, может, и впрямь думал, что защищает меня, — по крайней мере хотел убедить меня в этом, только напрасно. Я очень легко разгадал его, как-никак прожил рядом с ним не один год, и он знал это, но все же продолжал свою дурацкую игру.
— Отстранить окончательно? Ну, это как скажут наверху. Но… — Тут он сделал паузу: как плохо затвердивший роль трагик, хотел придать своему выступлению пафос. — Мое мнение и мнение… товарища Прошековой совпадают. Контрольные органы, разумеется, расследовали все, что творилось вокруг Рудной, и выходит — нельзя тебе оставаться на твоей должности.
Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Долгая пауза увеличила отдаление между нами. Я представлял, как сижу в залепленной снегом кабине грузовика со стругом в роли «поводыря» и указываю шоферу, куда ехать, чтоб не сползти с дороги. Глаза очень скоро начинают адски болеть, а ведь эти люди сколько лет работают в зимних условиях! За эти три дня я понял, что тот, кто губит свои глаза и не жалуется, делает свое дело не просто так, абы отработать смену и — домой, и не потому, что его упросила жена или любовница. Если направление струга, идущего на полной скорости, зависит от живых человеческих глаз, он не съедет с дороги, хотя бы она была занесена снегом до верхушек деревьев или телеграфных столбов: ведь мы для того расчищаем дороги, чтоб люди могли встретиться друг с другом!
— А как же я теперь? Совсем уволишь или сунешь куда-нибудь?
Во мне понемногу закипало. Я все время чувствовал какое-то несоответствие между тем, что здесь говорилось, и тем, что должно было последовать. Решая, как со мной поступить, Смолин, строго говоря, исходил из всего, что было спорным в моих действиях, да еще из сведений, полученных от других; а он рад был за них ухватиться, потому что, вероятно, давно мечтал избавиться от меня. Или он струсил и теперь старался показать, что готов снять с меня голову за ужасный промах, который я допустил. Кричать, судиться, доказывать, приводить факты, которых было достаточно, только руку протяни куда следует, — нет, я выше этого. В душе я оправдывал Смолина, а стало быть, и безмолвную Прошекову, которая сидела потупившись, соображая, чью сторону занять и как об этом заявить. Быть может, она действительно верила в правоту того, что скажет, и всеми силами старалась придать нашему разговору нужное направление. По крайней мере она к этому готовилась, хотя от ее выступления вряд ли будет толк. С той поры, как она выгнала мужа, а сын отказался вернуться к ней, все истины, за которые она так цеплялась, видно, перепутались самым фантастическим образом. Прошекова хотела усилием воли сохранить маленький семейный коллектив, и вот перед ней сижу я, частица большого коллектива управления, выбивающаяся из круга всех ее понятий о долге и чести. Что она мне скажет — ступай, наведи порядок в семейных делах и больше не показывайся здесь?
— Я переведу тебя в технический отдел, — сказал Смолин. — Там не хватает проектировщика. Поможешь им… и вдобавок будешь под рукой.
Я прекрасно знал положение в техническом отделе: ведь он до сих пор подчинялся мне. Свободных вакансий там не было. Следовало думать, что Смолин переводит меня туда ненадолго, имея в виду позже сплавить еще и еще дальше…
— Проектировщик технического отдела болеет. А вдруг он завтра выйдет на работу? Куда меня тогда?
Прошекова наконец-то подняла голову, заговорила. Мне стало ясно, что, несмотря на материнские нотки в голосе, эта женщина не может быть на моей стороне.
— Вы, товарищ, не волнуйтесь, что-нибудь да подыщем. Но на теперешнем месте… после всего вам ни минуты нельзя оставаться!
Она драматически повысила голос, вскинула голову. А я бы выпил еще кофе — откуда-то вдруг потянуло таким крепким запахом кофе, что у меня заскулило в желудке, вызвав невольную усмешку. Прошекова раздраженно прикрыла глаза и сжала губы, будто готовилась к прыжку. Я заметил свой промах и попросил кофе.
Выпил чашку залпом. Лоб у меня взмок, рука, державшая платок, заметно дрожала. Я подумал: «Как изменяет мне собственное тело, до чего же необходимо мне спокойно выспаться, досыта поесть и какое-то время не думать ни о работе, ни о женщинах, заняться самим собой, а вернее — ничем не заниматься, только спать».
Читать дальше