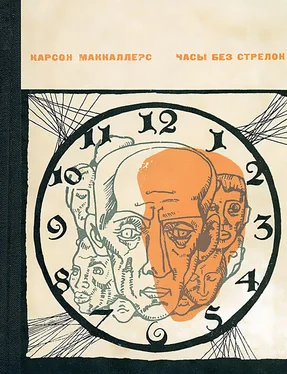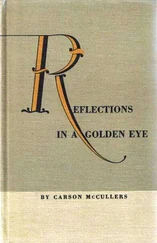— А ну-ка, убирайся вон, черномазый, и не смей сюда ходить!
Все эти поступки, нарушавшие границы дозволенного, пугали его самого. Руки у него были мокрые от пота, сердце нервно билось. Но как бы он ни был испуган, больше всего его донимало то, что никто как будто его не замечал, если не считать приказчика в аптеке. Он был выбит из колеи, измучен, и в голове у него, как барабан, отстукивали слова: «Необходимо что-то предпринять, предпринять, предпринять…»
Наконец он решился. Делая утром укол судье, он впрыснул ему вместо инсулина воду. Он проделывал это три дня кряду и ждал, чем это кончится. Но опять произошла какая-то мистика — ничего не случилось: судья был таким же бодряком, как всегда, и совсем не выглядел больным. И хотя Шерман его ненавидел и считал, что его надо стереть с лица земли, он понимал, что убийство должно носить характер политический. Просто так умертвить судью он не мог. Если бы убийство было политическим, может, он и расправился бы с ним ударом кинжала или выстрелом из пистолета, но не таким подлым способом, как подмена инсулина водой. Но даже и этой подмены никто не заметил. На четвертый день он снова впрыснул судье инсулин. А барабан все так же настойчиво бил у него в мозгу.
Между тем судья, не будучи человеком наблюдательным, был, как назло, очень мил и на редкость покладист. Это еще больше бесило Шермана. Дело дошло до того, что его глодала ненависть к судье и к другим белым не потому, что у него был повод их ненавидеть, а потому, что у него была такая внутренняя потребность. И вот, желая переступить границы дозволенного и боясь этого, желая привлечь к себе внимание и боясь обращать на себя внимание, Шерман в эти первые майские дни был одержим мыслью, что он должен «что-то предпринять, что-то предпринять!».
Но когда он, наконец, это предпринял, ему самому было трудно понять, зачем он совершил такую низость. В один знойный, как раскаленная лава, день Шерман шел по заднему двору судьи на улицу, и собака Джестера Тайдж прыгнула на него и лизнула в лицо. Шерман так и не понял, что его толкнуло на этот поступок, но он взял большую веревку, завязал на ней петлю и повесил собаку на ветке вяза. Собака судорожно билась несколько минут. Глухой старый судья не слышал ее придушенного визга, а Джестера не было дома.
И, несмотря на то, что был еще день, Шерман сразу лег спать, даже не поужинав, проспал всю ночь напролет, как мертвый, и проснулся только в девять часов утра, когда в дверь забарабанил Джестер.
— Шерман! — кричал Джестер голосом, полным ужаса.
И пока Шерман не торопясь одевался и ополаскивал водой лицо, Джестер, истошно крича, продолжал колотить в дверь. Когда Шерман вышел, Джестер потащил его к себе во двор. Окоченевший труп собаки висел на фоне синего майского неба. Джестер заплакал:
— Тайдж! Тайдж… Как же это? Что это?
Потом он повернулся к Шерману, который стоял, уставившись в землю. У Джестера возникло страшное подозрение, которое вдруг подтвердилось, когда он увидел опущенную голову Шермана.
— Ты сошел с ума? Зачем ты это сделал?
Он оторопело смотрел на Шермана, еще не веря, что это правда. Он надеялся, что найдет нужные слова, найдет, как поступить. И что его не стошнит. Его не стошнило, он подошел под навес, чтобы взять лопату и вырыть могилу. Но когда он снял мертвую собаку, перерезал петлю и положил Тайджа в могилу, он почувствовал, что ему дурно.
— Как ты сразу узнал, что это я?
— По твоему лицу. Просто догадался.
— А я смотрю, как ты прогуливаешь эту собаку для белых, вырядился в новые штаны, ходишь в школу для белых. А почему никому нет дела до меня? Что бы я ни сделал, никто и в ус не дует. Хорошее или плохое — никто даже не замечает. Люди балуют эту проклятую собаку и не обращают никакого внимания на меня. А ведь это только собака!
— Но я его любил. А Тайдж любил и тебя.
— Я не люблю собак белых людей, никого я не люблю!
— Но это же просто ужас! В себя не могу прийти!
Шерман вспомнил, как майское солнце освещало бумаги в судейской комнате.
— Не можешь? А я, думаешь, могу?
— За такой поступок, по-моему, тебе место в сумасшедшем доме.
— В сумасшедшем доме! — передразнил его Шерман. Он вяло захлопал руками, изображая кретина. — Нет, детка, я слишком хитер, чтобы меня запрятали в сумасшедший дом. Никто, кроме тебя, не поверит, что это я убил собаку. Даже тамошние врачи. Если ты думаешь, что это сумасшествие, увидишь, чего я еще натворю!
Пораженный этой угрозой, Джестер не удержался, чтобы не спросить:
Читать дальше