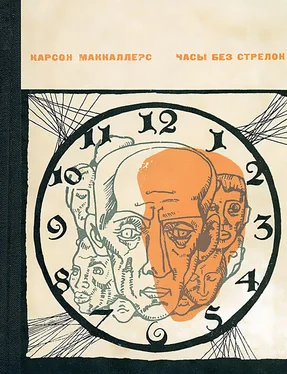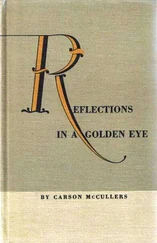— Что рассказал?
— Что он любит эту женщину или думает, что ее любит.
Глаза у Джестера расширились от ужаса.
— Но это невозможно! Ведь он был женат на моей матери!
— Мы с тобой как кровные братья-близнецы, сынок, а вовсе не как дед с внуком. Мы как две горошины из одного стручка. Одинаково наивны, одинаково щепетильны в вопросах чести.
— Я тебе не верю.
— Я тоже не поверил, когда он мне сказал.
Джестер часто слушал рассказы о матери, поэтому она не возбуждала в нем любопытства. Он знал, что мать обожала мороженое, особенно суфле, играла на фортепьяно и училась музыке в колледже Холлинс. Эти сведения ему сообщали охотно и мимоходом, с раннего детства, и мать не возбуждала в нем острого интереса и благоговения, которые он испытывал к отцу.
— А какая она была из себя, эта миссис Литтль? — помолчав, спросил Джестер.
— Шлюха. Такая бледная гордячка, на сносях.
— На сносях? — с отвращением переспросил Джестер.
— Явно! Когда она шла по улице, казалось, что толпа должна расступаться перед ней и ее ребенком, как Красное море перед иудеями.
— Как же отец мог в нее влюбиться?
— Ну, влюбиться легче всего на свете. Вот сохранить любовь гораздо труднее. Да это и не была настоящая любовь. Такую любовь питают к отвлеченной идее. К тому же твой отец и не хотел чего-нибудь добиться. Назови это скорей увлечением. Мой сын был пуританином, а у пуритан больше иллюзий, чем у тех, кто сразу старается добиться взаимности в любой интрижке.
— Представляю, как это было ужасно для отца — любить другую женщину и быть женатым на моей матери! — Джестер был захвачен драматизмом этой истории и не испытывал никакого сочувствия к своей матери, обожавшей суфле. — А мама знала?
— Конечно, нет. Сын и мне рассказал только за неделю до самоубийства. Он был так несчастен, так потрясен. Не то он и мне не сказал бы.
— Чем он был потрясен?
— После приговора и казни миссис Литтль вызвала Джонни. У нее родился ребенок, и она умирала.
У Джестера запылали уши.
— Она сказала, что любит отца? Страстно его любит?
— Она его ненавидела и так ему и сказала. Она проклинала его за то, что он такой плохой адвокат, за то, что он проповедовал свои убеждения во вред своему подзащитному. Она проклинала Джонни и винила его в том, что он глупо вел дело; если бы он настаивал только на том, что это самозащита, Шермана Джонса выпустили бы на свободу. Женщина была при смерти, она бредила, рыдала, терзалась — и проклинала. Она кричала, что любила Шермана, что он был самым чистым, самым порядочным человеком, какого она знала. Она показала Джонни своего младенца с темной кожей и такими же голубыми глазами, как у нее. Когда Джонни вернулся домой, у него был такой вид, будто он спустился с Ниагарского водопада в бочонке.
Я дал ему выговориться. «Сынок, — сказал я, — надеюсь, это послужит тебе уроком. Женщина не могла любить Шермана Джонса. Он черный, а она — белая».
— Дедушка, ты говоришь так, будто полюбить негра — это все равно что полюбить жирафа или еще кого-нибудь в этом роде!
— Какая тут может быть любовь? Это просто похоть. Похоть всегда пробуждается от чего-то необычного, чужеземного, извращенного и опасного. Я так и сказал Джонни. Потом я спросил его, почему он принимает все это так близко к сердцу. А Джонни ответил: «Потому, что я люблю миссис Литтль, но, может, ты хочешь внушить мне, что и это надо звать похотью?» — «Либо похотью, либо безумием, сынок», — сказал ему я.
— А что было потом с ребенком? — спросил Джестер.
— По-видимому, когда миссис Литтль умерла, Райс Литтль взял ребенка и подкинул в церковь святого Вознесения. Я уверен, что это сделал Райс Литтль, больше некому.
— И это наш Шерман?
— Да, но не вздумай ему этого рассказывать, — предупредил судья.
— А отец покончил самоубийством в тот самый день, когда миссис Литтль показала ему младенца и его прокляла?
— Он сделал это через неделю, в первый день рождества, когда я решил, что мне удалось втемяшить ему в голову хоть каплю здравого смысла и что со всей этой историей, слава богу, покончено. Рождество началось, как всякое рождество: утром разглядывали свои подарки и складывали под елкой. Мать подарила ему жемчужную булавку для галстука, а я — коробку сигар и водонепроницаемые удароустойчивые часы. Помню, Джонни их обо что-то стукнул, а потом положил в чашку с водой, чтобы испытать. Я не устаю себя попрекать, что в тот день ничего не заметил, ведь мы были как кровные братья-близнецы, я должен был почувствовать, в каком он отчаянии. Скажи, ну, разве это нормально, что он в тот день дурачился с этими часами? Ну скажи, Джестер?
Читать дальше