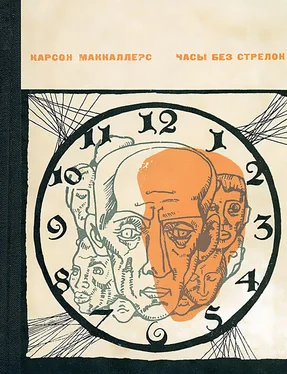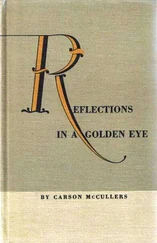— Ну, талант — это еще не все, — наставительно произнес Шерман; похвала Джестера была ему очень приятна.
— …и не очень-то успеваю по математике, так что атомная физика тоже отпадает.
— Вы можете стать конструктором.
— Наверно, — печально согласился Джестер. Но тут же весело добавил: — Пока что нынешним летом я учусь летать. Но это не настоящее призвание. По-моему, все должны уметь летать.
— Я с вами в корне не согласен! — возразил Шерман, боявшийся высоты.
— Предположим, у вас умирает ребенок, ну, как те дети с врожденным пороком сердца, о которых всегда пишут в газетах, и вам надо полететь, чтобы перед смертью с ним проститься, или, например, заболела ваша безногая мать и хочет вас повидать на прощание, и вообще летать очень интересно, и я считаю это моральной обязанностью — все должны учиться летать!
Я с вами в корне не согласен, — повторил Шерман, ему было противно разговаривать о том, чего он не умел делать.
— Ладно, а что это вы сегодня пели? — не унимался Джестер.
— Вечером — нормальный джаз, а перед этим я разучивал настоящие, чистокровные немецкие лидер.
— А это что?
— Так и знал, что вы понятия не имеете! — с удовлетворением воскликнул Шерман. — Лидер, тупица, значит по-немецки — песня, а немецкие — значит немецкие. — Он тихонько заиграл и запел, и новая, незнакомая музыка захватила Джестера так, что по телу пробежала дрожь.
— Это по-немецки, — хвастал Шерман. — Говорят, у меня по-немецки нет никакого акцента, — соврал он.
— А как это будет, если перевести?
— Вроде любовной песни. Юноша поет своей девушке… ну, вроде: «Голубые глаза моей любимой, таких я в жизни не видал…»
— У вас тоже голубые глаза. Вы будто поете любовную песню себе: даже мурашки бегают, когда знаешь слова…
— От немецких лидер всегда мурашки. Поэтому я их и разучиваю.
— А какую еще музыку вы любите? Лично я буквально обожаю музыку, страстно ее люблю. Зимой я выучил этюд «Зимний ветер».
— Ну, это вы врете, — сказал Шерман, не желая ни с кем делить свои музыкальные лавры.
— Неужели я буду вам врать, что я выучил «Зимний ветер»? — спросил Джестер, который никогда и ни при каких обстоятельствах не врал.
— А почему нет? — удивился Шерман, один из самых больших вралей на свете.
— Правда, я давно не играл.
Джестер пошел к пианино, а Шерман не спускал с него глаз, надеясь, что тот все же играть не умеет, В комнате громко и яростно загремел «Зимний ветер». После первых бурных аккордов Джестер запнулся, и пальцы его перестали бегать по клавишам.
— В «Зимнем ветре» если собьешься, тогда уж все…
Шерман, ревниво слушавший игру, обрадовался, когда мелодия оборвалась. Джестер яростно заиграл этюд сначала.
— Кончай! — закричал Шерман, но Джестер отчаянно продолжал играть, и громкие звуки заглушали недовольные возгласы Шермана.
— Ну, что ж, довольно прилично, — сказал Шерман после того, как Джестер шумно, но не очень ровно сыграл этюд до конца. — Однако тон у вас неважнецкий.
— Я же вам говорил, что могу сыграть.
— Играть можно по-разному. Лично мне не нравится, как вы играете.
— Я знаю, это не настоящее призвание, но лично мне моя игра доставляет удовольствие.
— Чего нельзя сказать о других.
— А по-моему, джаз у вас лучше получается, чем немецкие лидер.
— В молодости я одно время играл в джазе. Вот когда мы давали жизни! Бикс Байдербек был у нас главный, он играл на золотой трубе.
— Бикс Байдербек? Не может быть!
Шерман стал неловко выпутываться.
— Да нет, его звали Рикс Хейдерхорн. Я-то в общем собирался петь Тристана в Метрополитен-опере, но партия мне не подходила по тембру. В сущности, большинство партий в Метрополитене не подходят для людей моей расы, так что единственная роль, которую я могу с ходу назвать, — это роль Отелло: он ведь был негритянским мавром. Музыка там в общем ничего, но, с другой стороны, его чувства до меня не доходят. Разве можно так сходить с ума из-за какой-то белой женщины? — вот что непонятно. Как я подумаю о Дездемоне… потом о себе… опять о Дездемоне… и о себе… Нет, до меня это не доходит. — И он запел: — «Прощай, покой! Прощай, довольство всем!»
— Вам, наверно, неприятно, что вы не знаете, кто была ваша мать?
— Вот еще! — отмахнулся Шерман, который все свое детство только и делал, что искал мать. Он присматривался к каждой женщине с ласковыми руками и тихим голосом. «Может, это моя мать?» — спрашивал он себя с трепетом, но каждый раз все кончалось разочарованием. — Стоит к этому привыкнуть, и становится все равно. — Он сказал это потому, что никак не мог к этому привыкнуть. — Я очень любил миссис Стивенс, но она мне прямо сказала, что я не ее сын.
Читать дальше