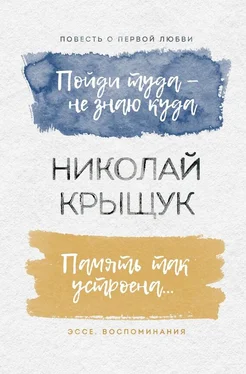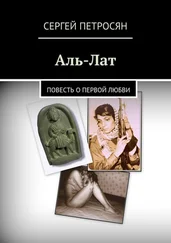Комната в эти дни настаивается густым и темным запахом елочной хвои. Сама елка, как невеста, которую умыкнул влюбленный, стоит, потупившись, у окна, медленно расправляя затекшие от веревок ветви. Чувствуется, что и она, как все, ждет своего часа.
А чем пахнут елочные игрушки, спрошу я вас? Не ответите. Потому что елочные игрушки пахнут елочными игрушками. Это такой же самостоятельный запах счастья, как запах растертой в пальцах смородиновой почки, дождя, обувной кожи, арбуза…
И вот уже наступают последние сутки. Помню эти длинные сутки с детства. Между рамами в быстро синеющих окнах застывает холодец и бутылка шампанского. Мы вешаем на елку обернутые в фольгу грецкие орехи, конфеты и мандарины. Вешать на елку съестное, как я теперь понимаю, детская уловка бедности. Мы приносим к елке также самодельные игрушки, сочиненные в последнюю ночь. В комнате полный свет (в обычные дни горят два-три рожка из пяти). Мама кулаком заталкивает в кастрюлю беспокойное тесто. Дотапливаются печи, мне разрешают обмолотить головешки длинной кочергой. Мужчины, не находя себе дела, в белых рубашках захаживают на кухню и делают пробы винегрета, салата, рыбы. В иных семьях загораются маленькие экраны КВНов, напоминая зимние заиндевевшие окошки. А мы проносимся сквозь этот предпраздничный гомон, ничего не задевая и ни на чем не останавливаясь, и весь наш день похож на затяжной сомнамбулический полет.
Наконец меня укладывают спать, обещая разбудить не позже одиннадцати. Единственный раз в году иду спать без сопротивления. Не сплю, а завихриваюсь в сон. Дед Мороз с витрины шагает ко мне, оставаясь на одном месте. Уличные плафоны позвякивают, как елочные игрушки. Осторожный стук дверей отмеряет начало и конец сменяющихся в мозгу сцен. Слышу, как мама натягивает на оттоманку с матерчатым треском свежие отстиранные чехлы, разглаживает кружевное покрывало с фестонами на краях, как поправляет на окне пересиненный тюль, расставляет на столе бокалы, до краев наполненные сумерками. Несколько раз приоткрываю глаза и смотрю на елку. Ниток не видно. Невесомо покачиваются в воздухе серебряные орешки и мандарины, вплывая через полуоткрытые веки в мой непрочный сон.
В сущности, все эти предновогодние дни, в особенности последний сон, – прощание. Ведь пока я носил в себе предстоящий праздник – он был только мой, сколь угодно повторяемый, и никуда не мог уйти от меня. Но вот он начался, стал осуществляться, стал независим от меня, и я с грустью гляжу в глаза совершающегося. Я радуюсь и не узнаю его, я смеюсь и плачу про себя, сравнивая этот сумбурный томительный мир с совершенством, которое так долго вынашивал в душе.
Бывало, мне представлялось в этом вихре сна все, что еще ожидает меня в новогоднюю ночь. Бой курантов, подхваченный звоном бокалов, сюрпризы-хлопушки, из которых вылетают значки и брошки, какие-нибудь слоники и трилистники, всегда неожиданные и веселые визиты ряженых. Но все это виделось мне уже в освещении того сиротливого утра, когда я стану разбирать елку, все это слышалось под пение и свист елочной хвои в печке.
Жизнь во всех своих проявлениях стремится к завершенности. Но так же, как художник, завершив многолетний труд, отпускает его к людям, чтобы снова коснуться руками сырого гипса, так и душа иссякает в совершенстве и уже в следующий миг ищет новизны. Гонит прочь милое и обжитое, а порой и жестоко осмеивает любимое. Но все наше существо стремится к ценностям вечным и абсолютным. Мы не хотим видеть в проходящем лишь ступени, по которым нам всю жизнь суждено приближаться… к смерти.
В некоторых людях страх конца убивает и саму волю к жизни, другие спасаются от него в забвении.
Вот почему я тянусь к так называемым грустным людям.
Грустным людям, конечно, совсем не чуждо веселье, но веселье их не бывает вульгарным. Потому что вульгарность проистекает не от отсутствия вкуса, как принято считать, а от забвения того, что смерть всегда рядом. Они порядочны не по закону, а по совести. Они редко бывают непосредственны в том смысле, в каком непосредственны веселые люди. Но если последние обрадуются какой-нибудь бабочке, как свидетельнице их счастья, первые увидят в ней само крылатое счастье с недолговечным пыльчатым узором. Грустные люди могут показаться суховатыми, потому что никогда не бывают сентиментальными. Их быт легок и проветрен, как комната, состоящая из одних окон. Многим он может показаться аскетичным, но никому – идолом, на которого молятся хозяева. Грустные люди, как правило, хорошие друзья и интересные собеседники. Они бывают излишне робки, замыкаются в присутствии тех, кто им не по душе, или же становятся по-студенчески заносчивыми с ними. Многие из них несчастливы в любви, зато они умеют невольно передавать другим избыток живущего в них счастья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу