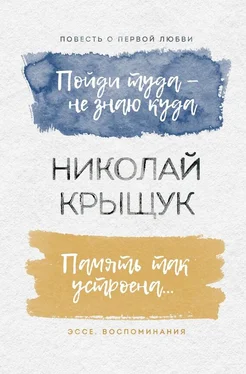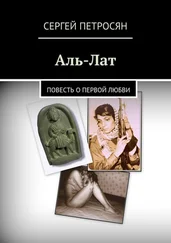По черной лестнице я поднялся на самую верхотуру, где не тесно разместились административные службы. Огромный кабинет мы делили с Германом Гоппе и Володей Фадеевым. Окна выходили на Неву.
«У нас покойник», – сказал я.
«Это уж… – привычно кося под кого-то из малых героев Достоевского прогнусавил Фадеев. – Н-да… Как говорится. Двенадцать-тринадцать в год. План!»
Герман Борисович, блестя фанатичным стеклянным глазом, убеждал молодого поэта прочитать внимательно стихи Анатолия Васильевича Луначарского, выбитые в граните на Марсовом поле. «Вот образец чувства и лаконизма!»
«Герман Борисович, это плохие стихи». – Мы не были еще знакомы. Реплика была бестактной.
«Да вы просто ничего не понимаете. Стихи прекрасные!», – вскинулся Гоппе. Что в этих перманентных яростных вспышках шло от натуры, что было следствием контузии трудно сказать.
«Против богатства, власти и знанья для горсти вы войну повели и с честию пали за то, чтоб богатство, власть и познанье стали бы жребием общим». Это?
«Да, прекрасные, прекрасные. Поразительно! Вы еще молоды, а спорите с человеком, худо-бедно прошедшим войну. Аргумент, конечно, я понимаю – не литературный, но все же…»
«Извините. Молчу».
Я начинал обвыкаться в этом литературно-политическом клубе, пытаясь понять его устные традиции и правила. В белом зале занавешивали зеркала для завтрашней панихиды, пахло лапником, радисты пробовали музыку, а у членов и служителей клуба подходила пора обеда. Мероприятие святое, как в крепких семьях. Не по звонку, конечно. Напротив, по индивидуальному расписанию. Но обязательно. Кто-то уже садился играть с барменом в шахматы (потом барную стойку перенесли в проход между залами, бармен уволился и коньяк разливали исключительно женщины, в шахматы не играющие). Кстати, разливать начинали с открытием. Сколько излеченных с утра и погубленных к вечеру душ! Я был весел, как житель внезапно нагрянувшего коммунистического рая. Предчувствие истины еще не коснулось меня.
С Германом Борисовичем мы подружились. Был он человеком искренним, хитрил простодушно, так, что чиновники, улыбаясь, шли ему навстречу. Уже после пятидесяти родил дочь и был едва ли не единственным ветераном и инвалидом войны, кто мог воспользоваться льготой и устроить своего ребенка без очереди в детский сад. Рассказывал со смехом, что такое же право по закону имеют ветераны Первой Мировой.
Его отличала порывистость, с некоторым пацанским самозаводом. Так, вероятно, и вступил он в пятнадцать лет добровольцем в Комсомольский полк противопожарной обороны, а через год, подделав документы, в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную Армию). Работала не только жажда героики, но и раннее расставание с отцом, которому в 39-м дали 10 лет без права переписки. В лагере тот и погиб. Мать умерла в 44-м в блокадном Ленинграде. А восемнадцатилетний Герман после тяжелого ранения в этом же году был демобилизован в звании сержанта с инвалидностью 1-й степени.
Таким бедолагам, как он, после войны выдавали приличное единоразовое пособие. Вспоминал со смехом, как на это пособие отправились они с приятелем в Европейскую, протянув швейцару какие-то немыслимые чаевые. Тот просек ситуацию и решительно вернул комок купюр обратно, со словами: «Не надо, сынок. Самому пригодятся».
И стихи у Германа Борисовича случались то ли брутально, то ли сентиментально (что обычно одно и то же) впечатляющие. Некоторые строчки вспоминаются до сих пор: «Девятнадцатый номер трамвая/ Поворот совершает крутой./ Пребываю в девятое мая – /Не в победный, а в сорок второй».
От завтрака до полуночи
Спускаясь с верхотуры, из коридоров прислуги, в бельэтажных и полуподвальных пространствах дворца (бюро пропаганды, бильярдная, ресторан) я продолжал расширять круг знакомств с людьми примечательными и знаменитыми. Маршруты и привычки некоторых изучил не хуже частного детектива.
Например, поэт-песенник С… Обиженное его на улице, в отсутствии внимания лицо, при встрече со знакомым мгновенно принимало скульптурные черты мудрости, а при виде близкого знакомого зажигалось дружеской эстрадной улыбкой. Свое ежедневное путешествие он начинал с бюро пропаганды. Открыв дверь, выкрикивал вместо приветствия: «Кому нужен мой голос эпохи?» Получив заказы на выступления в общежитиях, ДК, НИИ, а то и на датных мероприятиях Смольного, поэт спускался на пол-этажа и направлялся в сортит. Этот ритуал соблюдался неукоснительно и совершался вдохновенно, как если бы утром ему приходила от возлюбленной записка, в которой приглашение на свиданье заканчивалось ободряющими словами «явка обязательна». Закрыв дверь в кабинку и опустив стульчак, веселый, преклонный старик уютно присаживался и доставал из портфеля чекушку. Судя по звуку и скорости, выпивал залпом. Затем уже с воровским, отсутствующим выражением лица поднимался на те же пол-этажа по другую сторону – в ресторан. Жизнь начиналась здесь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу