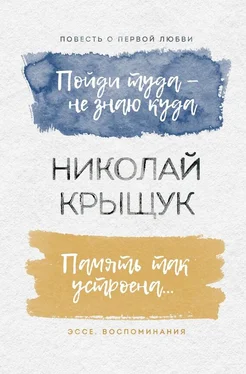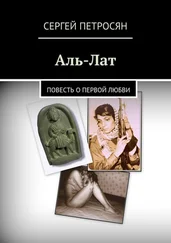По поводу прозы: это были, конечно, мучения больше автора, чем критика. Прозу свою он все же изобрел, блистательную. Вернее, попал в нее, сразу, как будто с ней родился. И она с годами менялась, как свойственно прозе, а отнюдь не критике. Это был, я думаю, в нашей прозе-критике «случай Жуковского». Автор скрыт за чужими текстами и персонажами. О Лурье, читателю известно меньше, чем об С.Гедройце. Зато уж тут исповедальность небывалая, какая возможна только в лирических стихах.
Не раз сталкивался с резким неприятием некоторых эссе Лурье. Таких, например, как о Блоковской «Клеопатре» («Самоучитель трагической игры») или о Тютчеве («Тютчев: послание к N.N.»). В последнем, как мы помним, речь о том, что «грамматика Тютчева упорно, ценою тончайших ухищрений уклоняется от употребления глагола „любить“ в первом лице единственного числа». Клевета на гения! Как можно!? Но ведь это о себе, пытался возражать я. О Блоке и Тютчеве, разумеется, но еще и о себе. Ответ: вот пусть о себе и пишет.
Что сказать? А Пушкин не оклеветал ли Сальери? А Жуковский не украл ли произведения Шиллера и Грея? А Тынянов, обнаруживший в Грибоедове или приписавший ему собственные черты? Есть замысел, есть жанр. В угоду им сжигается много жизненного материала. Самуил Лурье изобрел жанр собственного имени. Так или иначе, с этим теперь придется считаться. Если же в основе доказательства лежит грамматика, – тем более.
…Медицина здесь – человечна. Я ведь в университетс ко й клинике, принимающей больных любого уровня достатка со всей округи. Областная для бедных как была в 19 веке клиника Московского университета. И здесь все заточено на одну идею: чтобы человеку было как только можно легче, потому что он – каждый – заслуживает сострадания и заботы. Так жаль наших родителей. И всех, всех. А как я все это переживаю, дорогой Коля, про это напишу как-нибудь отдельно.
…Лечение выдерживаю. Живу практически на курорте. Замечательная природа, погода, еда. Видеозапись, где мы поем про Кейптаунский порт, меня тоже немножко тронула.(Видеозапись Даниила Коцюбинского с дня рождения Леонида Дубшана. – Н.К.)Текст про Кармен я оборвал где пришлось – потому что Андрей(Андрей Арьев, соредактор журнала «Звезда» – Н.К.) действительно задержал из-за него номер. Послал ему, посылаю и Вам, хотя тема раскрыта лишь процентов на 60. Но это было просто физическое упражнение для отравленной головы, чисто личная медитация. Впрочем, если такое приличное состояние, как сейчас, продлится еще хоть несколько дней, – может, и допишу (хотя бы для себя).
Проза (продолжение). Но было и еще в отношении Лурье к прозе противоречие – не противоречие, – особенность. К так называемой серьезной прозе относился с подозрением, предпочитая ей беллетристику. Недолюбливал Пруста и Музиля. Над многоумным Умберто Эко издевался: «… через каждые, предположим, десять страниц герой романа должен перекусить, или прогуляться, или справить нужду, и не машинально, а с чувством. Цитируя чьи-нибудь стихи (оставим ему на эти случаи т. н. книжную, как бы чужую память), афоризмы. Вообще, размышляя как можно глубже. Чтобы читатели устыдились испытываемой ими скуки. Чтобы поняли: их кормят отборной философской прозой – с подливкой из утонченнейших пейзажей, между прочим, – и нечего тут.
…Выделить – копировать – вставить. Выделить – копировать – вставить. И опять перерыв: телефонный разговор, или сновидение, или с прислугой поболтать – мало ли стилистических средств».
Легко разоблачая механику подобных текстов, охотно признавался, что подобная неприязнь и непонимание – его недостаток: столько достойных людей перед этими писателями преклоняется.
Из Штатов попросил меня прислать что-нибудь из прозы. Я послал рассказ. В ответ получил: «Большое спасибо за текст. Мне в нем нравится все, что проза. А беллетристика (логика событийной комбинации) не увлекает, жаль. В последнем романе Вы этот внутренний конфликт, мне кажется, преодолели».
Тяга к беллетристике («логике событийной комбинации») внятно ощущалась в его собственной прозе. Первая проба повествовательности была, конечно, в «Литераторе Писареве». Но и во всех вещах последнего десятилетия это стремление чувствовалось, вплоть до «Изломанного аршина» и «Меркуцио». Однако природа его дара была все же в другом.
Он умел дать эмблему судьбы, в которую были заключены и характер героя, и его эпоха, и поэтика. Чего стоит одна строчка о Данте, который всегда был повернут к эпохе в профиль. Несомненное родство с прозой и стихами Мандельштама, отчасти с прозой Герцена (и о том, и о другом пойдет речь в беседе, фрагменты которой я приведу ниже). Как и Мандельштам, по определению Берковского, Лурье «намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, – поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон». И, конечно, он также в своих историко-культурных опытах «действует не как теоретик, а как поэт».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу