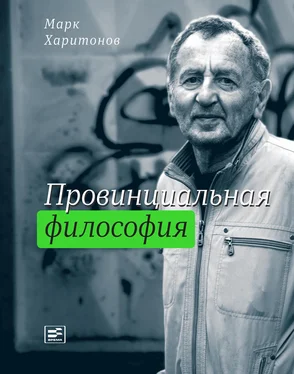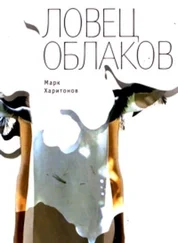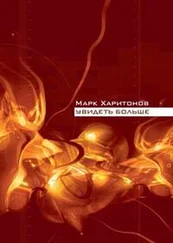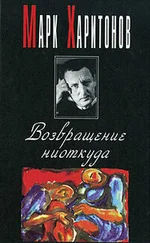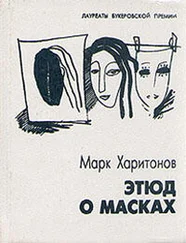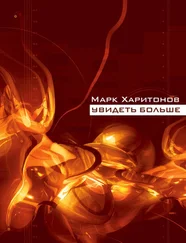(Детская готовность к вопросу, которого взрослый серьезный ум просто не станет ставить – и еще чувство, что ответ надо искать не просто в мире внешнем, что можно изменить жизнь, меняя глаз, ухо, мысль, – внешний мир поставляет разве что фантики для работы души – наряду с прочей пищей, – но чувства творит душа, которая всегда художник, и этот художник может быть гениален.)
сравнять с собой это беззвучное, разлитое…
9
И все-таки, все-таки. Как представить это соединение? Уже показалось возможным увидеть их вдвоем, нашедших успокоение после бурь, постаревших, пусть даже печальных, перечитывающих у печки страницы, и без того памятные наизусть, – но третий где? былой малыш, выраставший, взрослевший? Почему не видно его с ними? Неужели умер, едва обретенный? Нет, это бы как-то отложилось на фантиках, – ибо все несомненнее крепло чувство, что эти листки связаны с жизнью даже больше, чем нам до сих пор представлялось, – больше, чем дневник, чем книга для записей, чем черновик преображенных сюжетов, где реальность срасталась с фантазией, где неназванные персонажи были одновременно самими собой и Милашевичем; здесь чудился еще какой-то шифр его жизни, возникший то ли нечаянно, то ли умышленно, как будто писавший хотел – и боялся быть понятым.
10
Забыл слово «сезам», пытаешься вместо него вспомнить что-то по смыслу. Кунжут? Конопля? Не открывается. А откроется прохожему, который просто помянет слово в попутном разговоре.
Я написал это, зная, что сожгу, но зачем-то поправил слово, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бумаге с этим словом или с другим.
разве мы рождаем только тела?
это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии
11
На ощупь, уже угадывая в темноте чуть заметные вехи, уже заполнив кое-где пустоту зрячим прикосновением, выбираемся мы из слепого пятна – вот снова свет, зеленый двор бывшей усадьбы залит солнцем, под яблоней поставлен столик для самовара, музейная утварь вынесена на воздух для упаковки и погрузки, где-то там ждут телеги и лошади, грузчики заворачивают в рогожу кресла, остатки зеркал и граммофон, обивают досками фламандский кабинет и данцигский секретер с часами без стрелок, а упраздненный хранитель попивает тем временем чай с человеком, который приехал увозить сокровища провинции в центр, потому что всякую изощренность человеческой мысли правильней было сосредоточить в одном месте, подравняв прочее пространство, – все для того же, для торжества провинции в масштабе, какой мог лишь сниться скромному любомудру. Вот и это сошлось: былой соперник, такой блестящий когда-то, теперь надломленный, разочарованный, таскающий с собой, как судьбу, запах уксуса или тоски, мог быть свидетелем его торжества. Но тогда почему же, почему Симеон Кондратьевич не захотел предъявить ему всей полноты своего триумфа? Из благородства? от привычки к скрытности и недомолвкам? ради какой-то еще игры? чтобы просто не волноваться зря за нее и себя, не замутнять достигнутого покоя? или, может, от недостатка уверенности – в ней ли, в себе? Ладно, допустим любой вариант, допустим, он ухитрился за весь разговор не обмолвиться, даже не пригласить приезжего (и какого приезжего! не Семека все-таки) – в дом, где тот мог бы ее увидеть (он ведь наверняка жил с ней при музее, в одном из строений той же усадьбы, где же еще), допустим… и погода играла на руку, располагала посидеть на воздухе, – но она-то, она? как могла не показаться, не выйти хотя бы случайно? Не заперта же была – да могла бы голос подать, ведь сама не могла же не услышать приезда, не угадать – при своей-то чуткости. Или не захотела?..
12
Господи… что ж все в прятки играть! не с самим же собой. Будто боимся договорить, и все уводим, все возвращаемся, чтобы только не увидеть уже открывшегося: не могла бедная выйти к гостю и даже голос подать, ибо с самого возвращения лежала больная, безгласная, неподвижная, как во времена, когда потряс ее своим взглядом сареевский бородач. Незачем было даже читать в библиотеке медицинские книги – да можно и почитать; как будто нам и без них не понять, не представить, чем способно обернуться для трепетной души новое потрясение, может, поначалу прикинувшееся лихорадкой после встречи на холодном ноябрьском ветру. Мы только, может, не вполне еще знаем, что это было за потрясение, – к самому факту встречи она ведь была готова, недоразумение с арестом могло лишь ненадолго смутить. Но все-таки… после стольких лет… увидеть, как поработало время над людьми, которых она едва теперь узнавала… и узнала ли сына? он-то ее даже помнить не мог… разве что по сходству. Нет, не удавалось как следует разглядеть, потому что дальше-то мальчика с ними не было, вот оно что, как будто мать так и не дождалась сына; как прежде, нет даже малейших намеков на совместную жизнь, на его пребывание в доме, где теперь не один Милашевич, с ним женщина, заболевшая после встречи… Боже, ничто не развеивало теперь этого горестного видения, напротив, по мелочам прибавлялись подтверждения, как кристаллы, что облепляют новую нитку в достигшем насыщения растворе. Они уже складываются в узор, от соприкосновения их рождается звон, тихий, ясный, печальный. О чем эта музыка? О женщине, что лежала в доме за ситцевой занавеской среди ящиков с рассадой, среди цветочного благоухания, возвращенная в сад покоя, нестареющая, прекрасная? О том, как безумный, влюбленный, страдающий человек выстраивал вокруг нее мир, где часам не нужны были стрелки, где всего времени было – лето, осень, зима да весна, детская карусель, только фантики надо было переносить с одного места на другое. Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится. Ожидание переносилось теперь на сына, который должен же был явиться и поднять ее, который где-то, невидимый нам, да, наверно, им тоже, рос, становился юношей и уже мужчиной. Как я надеюсь, как жду… – но кто же там все смеется так долго, не в силах остановиться? что там открывается впереди, словно провал? – и чем веет оттуда?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу