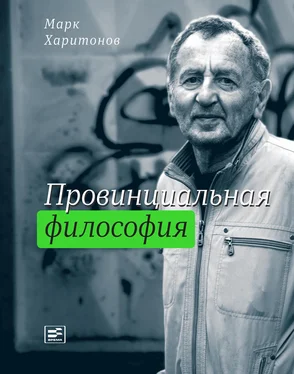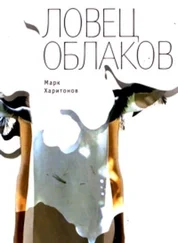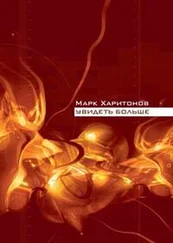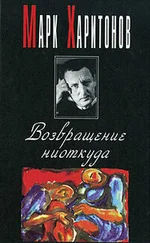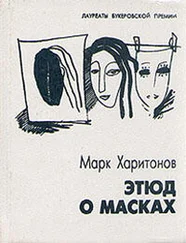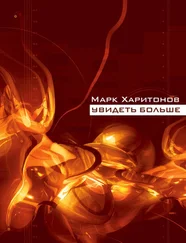9
Вот, екнуло в животе у Лизавина, вот про меня. Это он после нашей встречи, еще до приезда в Нечайск: «удивительная, не боящаяся быть смешной голубоглазость. Она вовсе не смущается ни банальности, ни даже пошлости, напротив, на них-то готова основать устойчивое мироздание. Тоже верно. Какая-нибудь песенка или поделка тоже говорит о жизни, только по-иному, чем “Фауст”». Причем общедоступному скорей дано быть общезначимым. Что-то меня задело в этом повороте ума или в этом человеке. Занятная перекличка с собственными мыслями – но как будто с другой стороны зеркала». Дальше на странице следовала еще лишь одна посторонняя запись о том, кто же любезней Замыслу: покровительствующий искусству властитель, по воле которого возводятся дворцы и храмы, или благоустроенное общество с довольным населением, которое обойдется чем-нибудь попроще («вопрос досадный для моего демократического ума»). Следующая страница была пуста, и Лизавин с недоумением, с некоторой даже обидой перечел еще раз относящиеся к себе строки, вспоминая похмельный долгий разговор на московской ночной улице, под аккомпанемент неотступного кашля, профиль собеседника с родинкой в уголке губ, создававшей впечатление усмешки, хотя ему было отнюдь не до смеха. Значит, вот как Максим тогда его понял – и так кашлял жутко, слушая про Милашевича. Какая же перекличка с мирной философией Симеона Кондратьевича почудилась ему в собственных метаниях, рожденных недугом? Похоже, он и в Нечайск поехал искать от него облегчения, а там встретил Зою и снова бежал. Есть ли тут о ней? – должно быть. Вот, после пустой страницы, будто начав заново:
10
«Что мы увидели друг в друге? Уж не себя ли? Мы понимаем себя через других (для того и книги, и люди). Господи, как мне сразу открылась в ней эта прелесть изящества, эта способность быть принцессой без заботы о наряде (то, что не зависит от происхождения, но и не дается наукой), эта врожденная четкость пристрастий, похожих иногда на болезненные причуды, эта фантастическая чувствительность к настоящему, «своему», которую она сама, кажется, не осознает – и может, слава богу, природа хитроумно о ней позаботилась, иначе как бы она прожила столько лет в этом доме?» Да, это о Зое, убеждался Лизавин, но как темно! – поди вникни. Тут же, в скобках, Максим вспоминал зачем-то рассказ тети Ариадны о маме, которая, почти нищенствуя, отказалась когда-то от заработка машинистки только потому, что учреждение называлось «Жирклуб»… Что-то в этом чтении чужой тетради было все же непозволительное. Неужели Максим и вправду разрешил? Так пишут для себя, не для читателя, даже опасаясь нескромного глаза, а тем более служебного: мало ли к кому могло попасть. Недаром и вместо имен везде ставились инициалы: вот, дальше, Костя Андронов обозначен был буквой К, а сам Антон – А. Лизавин читал дальше, узнавая по намекам памятный разговор за столом у Кости, когда былые приятели предавались перед Зоей армейским воспоминаниям; впрочем, говорил за обоих Костя, молчавший Максим, как выяснилось теперь по тетради, думал тогда о каком-то Марате – это имя было названо полностью; тоже, видно, из армейских знакомых. «К. не вспомнил про него – неудивительно. Удивительно, как я сам столько лет обходил его мыслью. Боялся понимания. О да, теперь мне ясно. Срабатывал последний самосохранительный механизм, как у тети Ариадны – головная боль».
Хорошо хоть это место Антон мог понять, он слышал раньше от Сиверса про замечательную тетушку, у которой возникали страшные головные боли, едва дотошливый собеседник или собственная мысль нечаянно приближались к запретным, опасным областям памяти – боль засвечивала их, как пленку. Видно, и воспоминание о Марате было чем-то Сиверсу неприятно – боже, мог бы все-таки объясниться вразумительней! – и при чем тут армейский приятель, когда уже начал о Зое? Вот опять: «Я, помнится, вначале решил, что он из горцев кавказских. Нет, казах, из простых, кончил школу. Браслетом своим восхищался из цветной пластмассы, умельцы в казарме их делали из краденых мыльниц и зубных щеток, купил у них за десятку. Но откуда этот кодекс чести, врожденный, аристократический?» «Когда сословный, дуэльный стыд исчезает, – приписано было сбоку, на полях, – надежда только на личный. Равенство оказывается равенством лишь перед страхом наказания, перед кодексом уголовным. Регулируют поведение страх или стыд. Или наследственная болезнь вроде моей». «Как он может, изумлялся Марат, писать девушке такие красивые письма, а вечером спускать штаны для экзекуции? А если бы она узнала? Да я бы застрелился!.. Я сам еще не представлял, насколько это всерьез. Он видел, как я заступался за К., он верил, что я знаю, как быть, что я не испугаюсь, дойду хоть до трибунала. Увы, дальше госпиталя я не попал – без меня он лежал у караулки с тремя пулями в спине, но я так ясно вижу иногда эту сцену и знаю, что виноват».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу