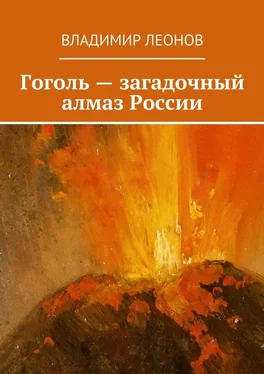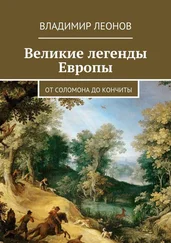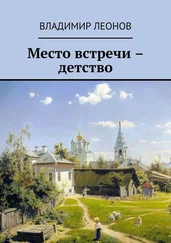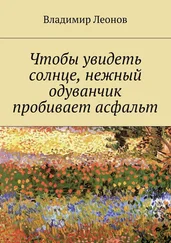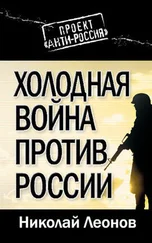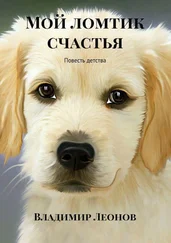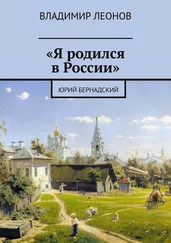Гоголь был православным христианином, и его православие было не мнимым, а действенным, и без этого невозможно что – либо понять из его жизни и творчества.
Гоголь получил начатки веры в кругу семьи. В письме к матери от 2 октября 1833 года из Петербурга Николай Гоголь вспоминал следующее: « Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне ребёнку так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли»
С духовной точки зрения, раннее творчество Гоголя содержит не просто собрание юмористических рассказов, а обширное религиозное поучение, в котором происходит борьба добра со злом и добро неизменно побеждает, а грешники наказываются. Глубокий подтекст содержит и главное произведение Гоголя – поэма «Мёртвые души», духовный смысл которого раскрыт в предсмертной записи писателя: « Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…»
Сатира в таких произведениях, как «Ревизор» и «Мёртвые души» – это лишь их верхний и неглубокий пласт, как видимая вершина мощного айсберга. Главную идею «Ревизора» Гоголь передал в пьесе под названием «Развязка Ревизора», где есть такие слова: «… стра шен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба» . В этом, по мнению Гоголя, заключена главная идея произведения: бояться нужно не Хлестакова и не ревизора из Петербурга, а «Того, кто ждет нас у дверей гроба»; это идея духовного возмездия, а настоящий ревизор – наша совесть.
Быль ли Гоголь мистиком или нет? Верующий в Бога человек не может быть мистиком: для него всем в мире ведает Бог; Бог – не мистик, а источник благодати, и божественное несоединимо с мистическим.
Без сомнений, Гоголь был « верующий в лоне Церкви христианин» , и понятие мистического не приложимо ни к нему самому, ни к его сочинениям». Хотя среди его персонажей есть колдуны и чёрт, они всего лишь герои сказки, и чёрт у него зачастую фигура пародийная, комическая (как, например, в «Вечерах на хуторе»). А во втором томе «Мёртвых душ» выведен дьявол современный – юрисконсульт, довольно цивильный с виду человек, но по сути более страшный, чем любая нечистая сила. С помощью коловращения анонимных бумаг он устроил в губернии великую путаницу и превратил существовавший относительный порядок в полный хаос.
Гоголь завершил свой писательский путь « Выбранными местами из переписки с друзьями » – ее называл «подлинной христианской книгой», а друзья – вредной и пустой. Принято считать, что книга является ошибкой, уходом писателя в сторону со своего пути. Но возможно, она и есть его путь, и даже более, чем другие книги. Все – таки это две радикально разные вещи: понятие дороги («Мёртвые души» на первый взгляд – дорожный роман) и понятие пути, то есть выхода души к вершине идеала.
«Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.
Отдается он своему таланту – и выходят прекрасные литературные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности – верх совершенства в своем роде – «Коляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству – и выходят в его письмах, как в письме «О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на нравственно – религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно – религиозный поучительный смысл, выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах.
Происходит это оттого, что, с одной стороны, Гоголь приписывает искусству несвойственное ему высокое значение, а с другой – еще менее свойственное религии низкое значение церковное, и хочет объяснить это воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верой.
Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное учение и государственное устройство, как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать и свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть, и в отдельных сочинениях, свои часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственные религиозные мысли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу