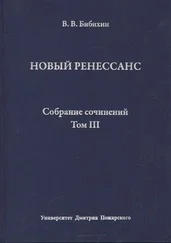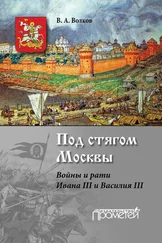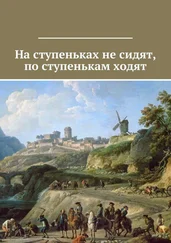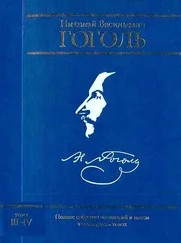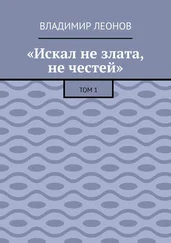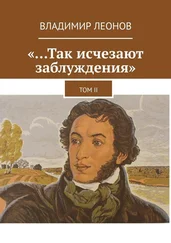То, что вспоминается в этом стихотворении, происходит весной, когда яблони осыпаны цветом, когда день долог, а ночи коротки. Но поэту кажется, что солнце нарочно «медлит» зайти, чтобы дать себе время налюбоваться на юную красавицу.
Все стихотворение дышит «настоящим», «счастливым днем», не затуманенным мыслью о будущем. Даже упоминание в последних строках о скоротечности жизни не омрачает общей безмятежной настроенности этих стихов:
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.
Тот же образ – жизнь – тень – возникает впоследствии в другом стихотворении Тютчева, но уже лишается прежней, ничем не нарушаемой беззаботности:
Как дымный столп светлеет в вышине! – Как тень внизу скользит неуловима!.. «Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, – Не светлый дым, блестящий при луне, А эта тень, бегущая от дыма…»
И, сколь ни парадоксальным может показаться такое утверждение, – чем сильнее испытывал поэт любовь к «матери – Земле», тем острее и мучительнее осознавалась им мимолетность человеческого бытия.
Сам поэт настолько любил «землю», что ему хотелось бы остановить время: «О время, погоди!» («Так в жизни есть мгновения…»). Для романтика Жуковского и поэтов его школы воспоминание было источником сладостных душевных переживаний, заменой утраченного. Иным было воспоминание для Тютчева:
Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас.
Надежда на «лучший, неизменный свет», на свиданье «там» с теми, кого потерял «здесь», примиряла Жуковского с жизненными несчастиями. Не таков был Тютчев. В душе поэта, по собственному его образному выражению, клокотал настоящий «бунт против смерти». «Ах, она мне на земле нужна, а не там где – то», – писал он после смерти Е. А. Денисьевой. Страшнее всего кажется поэту то, что самые дорогие воспоминания постепенно теряют свою остроту, «вымирают» в душе:
Минувшее не веет легкой тенью, А под землей, как труп, лежит оно.
Тютчев знает: жизнь торжествует над увяданием, над старостью, над смертью. Даже в минуты сокрушающего его горя, у постели умирающей любимой женщины («Весь день она лежала в забытьи, //и всю ее уж тени покрывали…»), «убитый, но живой», он различает за окном «веселый» (не унылый, а именно «веселый») шум летнего дождя:
В сравнении с мимолетностью человеческого существования единственной живой реальностью представлялась Тютчеву природа – «Великая Мать». Каждая новая весна так же молода, как и ее предшественница: «Бессмертьем взор ее сияет //И ни морщины на челе». Перед лицом этого постоянно обновляющегося внешнего мира человек, на каждом шагу своего бытия сталкивающийся с непреложным законом времени, не более как «злак земной», «мыслящий тростник», «беспомощное дитя», «греза природы». Эти настроения звучат не только в стихах Тютчева, но и в его письмах, порою как бы объединяя их общностью тона.
Поэт не раз признается своим близким, что его неотвязно преследуют и стали для него «привычными» ощущения «внутренней тревоги» и «чувство тоски и ужаса». Время, кладущее неизгладимые морщины на любимые черты, пространство, разделяющее людей и отдающее их во власть времени, и, наконец, смерть – равно могущественные и враждебные человеку силы в глазах Тютчева.
Именно они заставляют его «с такой болезненной живостью и – настойчивостью» испытывать «сознание непрочности и хрупкости всего в жизни». Это возраставшее с годами ощущение скоротечности бытия сочеталось у поэта с отчетливым сознанием обреченности действительности, чреватой потрясениями и бурями.
Бросается в глаза близость образов, которыми в своих стихах и письмах пользуется Тютчев для передачи подобных настроений (бездна, пропасть, вулкан, оторванная от берега льдина и т. п.).
Поэтическое творчество Тютчева отражает «страшное раздвоение» человека, посетившего «сей мир в его минуты роковые». При этом тревожное, мятущееся мироощущение поэта как бы противостоит его консервативному мировоззрению.
«Обломок старых поколений», обреченный уступить дорогу «новому младому племени», поэт не испытывает малодушного желания бежать от «бурь гражданских и тревоги». Наоборот, когда прежняя «твердая и непоколебимая почва» содрогается от гула социальных землетрясений, он – говоря его же словами —
…чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему – то внемлет жадным слухом…
(«Безумие»)
Но это чувство истории не мешало поэту переживать настроения человека, идеологически еще крепко связанного со старым миром, не мешало ему сознавать самого себя человеком «заката», не избавляло его от щемящих мук сиротства и одиночества. С предельной прямотой раскрывает Тютчев, почему именно тягостны и «ненавистны» ему «багровые» лучи «младого пламенного дня»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
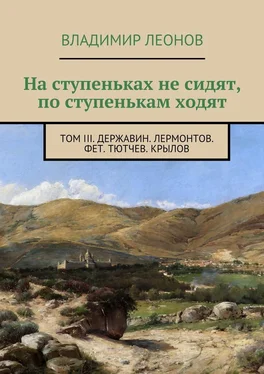
![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/31262/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche-thumb.webp)