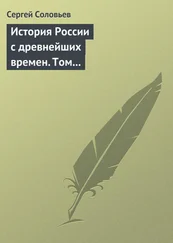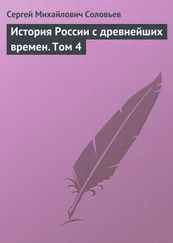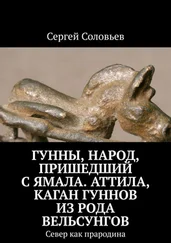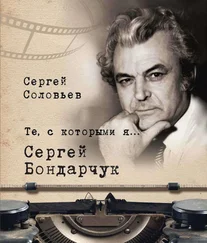Работа в движении, говорит.
Но это ведь жизнь, а не Джойс, - то, что меж нами.
В движении, говорит. Как процесс письма. Что-то вычеркивает, вписывает поверх, меняет событья местами, кроит.
Всё родней, всё теплей - отчужденнее, то есть.
Не слышит.
Предай земле, говорю, не тревожь тени, не вызывай духов.
Заведи, говорю, дом, жену, пса... Послушай мудрых.
Смеется: что на земле мудрость, то у нас пошлость, правда? - скворцу говорит, раскачивающемуся над ним на ветке.
Ты, говорю, как деревце на плече носишь нашу историю, как саженец - то там привьешь, то там, и опять переносишь.
Да, говорит, образно. Хожу и обмакиваю, как перо в чернильницы.
Он живет в черновиках времени.
Он вьет гнезда из слов.
Он тунгус, рядом с ним отклоняются все стрелки.
Он читает меня по губам пальцем.
Его отношение к людям неясно.
Он травит свою судьбу, как пес кота: передними лапами настигая, а задними пятясь. Одновременно - и лает и машет хвостом. И отходит от дерева, пожимая плечами.
Не судьбу, улыбается, а... - смотрит вверх, не может найти слово.
Рвет рубахи родства на груди, а сам вьется по следу иного.
Странно все это. И действительно - будто нет конца. И в который раз уже нет его. Как река - то под землю уходит, то снова высверкивает, шнурует даль.
Стихло. Оборвалось. Всё, кажется. Дни, недели. И вдруг звонок:
ты посмотри, говорит, ты посмотри сверху - что пишется!...
Она открывает глаза. Она висит на моих ресницах. И в глубине ее глаз - будто пламя свечи, той, между нами, взвивавшейся и опадавшей. Она покручивает реле: больше... меньше...
Маски - обе - уже на стене, на одном гвозде. Больше... меньше...
Молчит. Смотрит, верложит губами и головой подергивает по-птичьи.
Ну - скажи же.
И совсем тихо, в плечо мне:
Не думала... что это будет... так... легко.
День. Луг. Трава голубая от неба. Рыжий лохматый пес, он уносится от нас далеко вперед, как рваное пламя растягиваясь в прыжке и сжимаясь в шар, отскакивая от земли и вновь распрямляясь.
Она подобрала его в Италии, он сидел под деревом на узкой пустынной улочке и смотрел, чуть склонив набок голову, на пятна солнца, игравшие на мостовой.
Она еле слышно касается моего уха губами, этим ее сережечным лепетом. Я не вижу ее. Дрожь ресниц. И смущенье от чуда. От его мотылькового трепета - в нас, меж нами. И боязнь прижаться друг к другу. Из-за этой знобящей пыльцы.
Аморт!.. Аморт!.. - доносится издалека. Пес челночит по лугу. Темнеет.
Он говорит, что уходит в меня, как вода в песок. Он вымывает меня как полость. Песок на губах, говорит, долгого, как Ганг, поцелуя.
Тот, в пустыне, полуживой обмылок, лицом в песок - так пить не хочет, как я... что? Говорить с тобой? Нет ведь. Хотя и слова тоже. Пусть плывут, облака. Они похожи. На все, что хочешь. Говорить, то есть быть меж ними, пить. Он говорит: пить...
Будто дом осел со всею округой и светом над ним - такая нежность защемленная в его чертах, голосе, такая растерянность в его лице, ладонях.
Это ж ребенок, он говорит, то, что меж нами. Такой трудный, он говорит, как ангел, и только-только ходить начал.... Куда ж его - завернуть, втоптать, забыть, деть? Пить, говорит, пить...
Это рубашки судеб разные, а душа - сестра. Две сестры через столько тысяч лет встретились. Расстегни, говорит, ворот, высвободи лицо, руки, вышагни из рубахи.
Она лежала в палате на шестнадцать коек, калачиком, лицом к двери, молилась беззвучно, глядя на дверь, в лунном свете, падающем из окна. Деревенская девушка с голубыми глазами и льющимся до бедер солнцем волос. Опухоль в матке ей удаляли через задний проход. Чтоб сохранить девственность. Солнце ее облетало на больничный линолеум, сгорбленная женщина с картофельно запеченным лицом заметала их с пола и складывала в рукодельную торбочку. Больше к ней никто не ходил, кроме этой горбуньи ростом до локтя. Дочь облетела в три дня, мать шла за ней по коридору с совочком и заметала. Голая голова со сквозной синевою глаз и ручеек сорочки до пола. Жизнь задула ее, как свечу, в день рожденья. В семнадцать, он говорит. Он ходил в ту палату. Не к ней. Пока в живых не осталось двое. Одна, у окна, вздутая и почерневшая, как колесная резина. И еще одна... Зачем? Зачем он говорит об этом? Песок, песок, говорит, пить.
Перебором. Правая рука твоя перебором играет - здесь, в настоящем, у живота, а левая по ладам скользит - там, в стороне, в будущем. В буду с чем? Прислушиваешься, перебирая.
Он говорит, что любить меня, как висеть во тьме на стене разлома Марианской впадины. Он говорит, что там живут существа, похожие на горящие под тобой города в ночи. Они плывут, перебирая водорослями своих разноэтажных улиц. Они прозрачны настолько, что видно каждую из квартир. Есть там и пустыри и брошенные кварталы, и улицы-призраки, текущие сквозь дома из одной части города в другую, и ажурные дыры, и изумрудные муравейники, и старинные кладбища с парящими над ними смотрителями в неоновых плащ-палатках.
Читать дальше