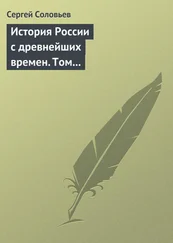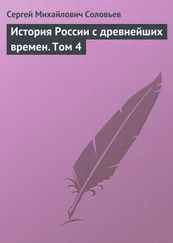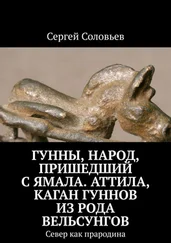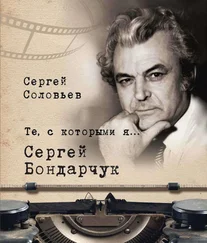Вспомнилось вдруг: далеко на восток отсюда, в детстве, был у меня друг, на пару лет старше, жил в соседнем парадном. Вадим. Коренастый костяк в глуховатой вате, крупная голова, очки. Мне лет шесть, он заходит, я подметаю в кухне, он говорит: нет, не так, ты метешь в угол, а нужно мести из углов, дай-ка веник, вот так: изо всех углов - к центру. Бог его знает, почему вспомнилось вдруг и в каком из углов эта мелочь спала.
У тебя, говорит, походка, как дитя малое, а ты ему потакаешь.
Что? - оборачивается, выезжая из-за спины.
Нет, говорю, пропуская ее, ничего.
Легкий контур воздушный за ней увивается.
Они умирают, едва приоткрыв глаза, так и не успев разглядеть ни жизни, которой жили, ни своей блеклой, как бы нехотя их заслоняющей смерти. Эти зимние низкорослые дни-альбиносы с маленькими мутно-серыми лунками глаз.
Даже не глаз - просто лунками. Да и лиц-то по сути нет, лишь намечены: там - губы, могли бы быть, там - ладонь, была бы.
У них белобрысая голова, белобрысые лица, белобрысое голое тело, они от рождения смотрят под ноги, идут и смеркаются по пути, не успевая дойти до конца этой улицы, один за другим, зябко сутулясь, похрустывая суставами, не оборачиваясь, да и собственно - чем?
Верно, они и рождаются с этим темным мешочком на голове, поначалу незримым. Но вот проступает, растет сверху вниз и быстрей, чем они.
Чуть глаза приоткрыли - и тишь, и морозная тьма в задубелой колючей дерюге. И во тьме - бой часов, там, на Frauenkirche, четыре, пополудни четыре.
Что же это за остров такой мы намываем с нею? Собой намываем. Камни, повсюду камни. И мы - в них вмурованные. Язык вмурован, глаза вмурованы, грудь, ладони. В живые камни. В тягучую вязкую немоту. Не-мы-ту. Ни она, ни я, не мы.
А развяжемся, разойдемся на час, на день - и нет ни камней, ни этого обложного, кессонного, донного... и, высвободившись, вернувшись в себя, говорим, говорим - все, что там не смогли с этим вязким камнем во рту сказать. И тянемся ртом, ладонью - туда, друг к другу, вмурованным в этот каменный студень, растущий к небу, покачивающийся над водой. Туда, где ни тропы, ни лодки у берегов.
Значит, что? Значит, нет? Или да, значит? Только нужно это еще прорасти вдвоем, прогореть, услышать? Даже если и нет, - да. Да, говорю. Не слышит.
Одна у нее душа. У нее душа. Не наоборот.
Потому и не слышит.
Давай, говорю, отпразднуем его день рожденья.
Кого? - приподнимает голову над подушкой.
Его, указываю на окно.
Окна?
Нет, дня. Недолгая жизнь у него, одно сегодня, до четырех. Давай, говорю, к пингвинам сходим. Они сродни этим дням. Попразднуем их, покормим. А там поглядим.
День уже угасал, пока мы добрались. Чайный жиденький свет над снегом. Рука из будки, просунувшая билеты, турникет подмерзший, ни души. Она подходит к карте, смотрит вверх, щурясь сквозь снег, шепча: пингвины, пингвины... Вот, за верблюдом, налево, значит, потом направо, потом...
Давай, говорю, по чувству пойдем, побродим чувством.
Идем. Двое сидят на ветке. Он и она. Гиббоны, почему-то хочется их назвать, хотя - кто его знает. Голое дерево, без кожи, тонкими длинными руками тянущееся вверх - куда? Нет там ничего.
Сидят на одной из верхних, единственной вверх не вскинутой. Он напротив нее. На расстояньи вытянутой руки. А руки у них длиннее тела. У него - опущены, у нее - сцеплены на ветке меж разведенных ног.
Он на нее смотрит, не сводя глаз, чуть подавшись вперед. Она - в сторону.
Он терпеливо ждет. Рука покачивается, приподнимаясь, он ее опускает, утишивая. Тянется к ней лицом. Но там, где должно быть ее лицо, - ухо, только ухо отвернутой от него головы.
Он теряет терпенье, протягивает руку - такую длинную, что она размывается в перспективе, бережно заводит ладонь за ее голову и поворачивает ее лицом к себе. Она смотрит на него, поерзывая руками, скашивая взгляд то вверх, то вбок.
Он отнимает руку и медленно возвращает ее вниз, под себя, покачивая в пустоте подвернутою ладонью, в которую летит снежок: розоватый смеркающийся - в розовую, подрагивающую пальцами.
Она нервно терпит. Качнулась к нему лицом, на миг уставясь в него, и отдернула голову на прежнее расстоянье. Ее тяготит этот оптический коридор, она дует в него, томясь, пожевывая губами. И отворачивается. В ту же сторону, куда смотрела. Куда? Что там? Снег. Тишь. Ни души.
И все повторяется. Раз за разом - с интервалом две-три минуты.
Они сидят в смеркающемся небе под розовым снегом, не долетающем до земли. У них тонкие шеи, влажные медленные глаза и пальцы из длинного меда. Они сидят, лунноликие, узкобедрые, в коротко стриженном серебре.
Читать дальше