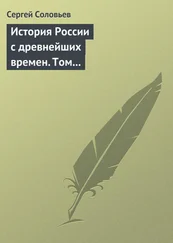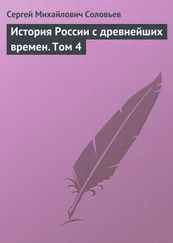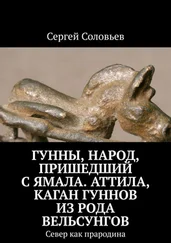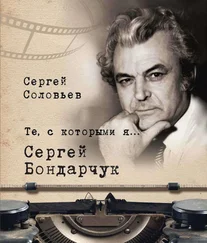Бежит по световому кругу, выруливает на взлетную. В кабинке бензовоза мигнул свет, капот приоткрылся. Диспетчер наблюдает, свесив голову с потолка, слюдяной полоской залеплен рот. Лила, божественная игра.
"Если шудра будет намеренно прислушиваться к чтению вед, его уши следует залить расплавленным свинцом. Если же декламирует ведийские гимны, ему следует вырезать язык. Если он запоминает их, его тело следует рассечь надвое."
Сцапал! Облизывается.
А вчера как-то вдруг, на ходу, спрашивает:
- А что, по-твоему, главное в человеке?
- В каком смысле? - говорю.
- В твоем.
- Сомнение, - говорю.
- А как же свобода?
- Так в нем и свобода.
- А радость?
- Да, - говорю, - для печени.
Губу закусила.
А если всерьез, как ответить? Не ей, не на ее слишком поспешный, как мне всегда казалось, рывок - опередить колебанье решеньем. Слишком - какой? Малодушный? Ранимый? В кавычках мужской? А что б я ответил себе?
Спи, пес, спи.
Просыпались мы под ангельскую музыку и пение вишнуитов. Такую мелодию мог бы насвистывать какой-нибудь младший ветерок, вольно кружащийся в новорожденном небе - когда еще видно было во все края и травинку посасывало в полусне безбородое время. Откуда, из какого ашрама она доносилась, мы никак не могли понять, замирая, как охотничьи псы, принюхиваясь к рассветному ветерку. А она наплывала то с запада, то с востока, то из-за реки, отдаляясь, смолкая, и вдруг возникала у нас за спиной, прямо за дверью.
Этот, за нос водящий нас заговор гор, отраженных в мутящемся зеркальце Ганга, день за днем нас преследовал как наважденье, эфирный наркоз... Я растягивал пробужденье, пробрасываясь по-дельфиньи, внамет, меж двух стихий - сна и этого пения с подглядкой на Ксению, уже сидевшую на светающей лоджии, на полу, с блокнотом на коленях и беглой улыбкой к прижавшимся к решетке обезьянам, все пытавшимся выцепить из ее руки приплясывающий карандаш. И тихонечко подпевала. И я снова заныривал в сон.
В то утро я поднялся раньше нее, вышел. На улице, у порога, сидел крупный одутловатый самец рыжего бандера, свесив на грудь голову и угрюмо уставясь на свои ступни, постукивающие по мокрому асфальту. Я вернулся за фотоаппаратом.
Он все постукивал. Глядя сквозь окошко камеры, я приближался, видимо, в какой-то момент утратив ощущенье реальности, пока чуть ли не ткнулся объективом ему в лицо. И в тот же миг нажал на спуск, вспышка - и такая же вспышка в глазах бандера.
Он вскинул руки и начал трясти ими над головой. В разъятом рту его трещало искрясь мощное замыкание.
Я отпрянул, он прыгнул ко мне - не укусить - выбить из рук камеру. Я снова отпрянул, пряча камеру за спину. Он шел на меня, вытянув руку с указательным пальцем, - срамя, покачивая головой.
Я, как мог, извинился - принес ему вязку бананов. Он сидел в прежней позе, постукивая ногой.
И тут я снова услышал эту музыку - совсем рядом, и пошел на звук. Оказалось - еще ближе, за углом. Каждый день мы десятки раз проходили мимо этого ашрама, стоящего чуть особняком, как и наш, над рекой. Я вернулся за Ксенией.
Стоял и смотрел, зная, что не спит.
Она потянулась ко мне руками, не открывая глаз, и порывисто-плавно обвила, увлекая вниз, за собой.
Только зыбкая легкость ладоней ее - этот солнечный трепет в листве, и во рту этот морок тягучий ее языка, и коленей ее плавунки; и обвила, струясь, расплываясь, лиясь и сплетаясь в двух тел водяное веретено.
И потом - этот сдвоенный сполох, слепя и кривясь, расщепляющий тьму. И бездонно дрожащий проем, осыпающий жар. И пустые уключины сердца. Не обвила. Не потянулась. Зевнула. Открыла глаза и, чуть виновато в себя приходя, улыбнулась.
Мы сидели на ковриках в залитом солнцем ашраме; она на женской, я на мужской его половине, покачиваясь в такт мелодии. Точнее, раскачивался я, вместе с горящим рядом со мной садху - тучное пламя его одежд, над которым вилял дымный клубень его головы. В отличие от меня, стиснутого со всех сторон, Ксения сидела в жиденькой стайке женщин, в медитативной позе, прикрыв глаза. Прибывавшие пританцовывая пробирались к лубочному, лоснящемуся от просветленья Кришне - двухметровому, шарообразному, беспробудно царящему на алтарном столе, и, потрепав его по щеке или чмокнув в колено, рассаживались. Музыканты лепились в гуще со всеми, подъяривая друг друга, меняясь на ходу инструментами, голосами, входя в затяжной упоительный транс. То и дело один из инструментов они пускали по рукам над головами, или кто-нибудь из дальних протискивался к ним, подсаживаясь к барабанам, микрофону или ситаре. Перед Ксенией, спиной к ней, сидела женщина, чей темный профиль с большим лошадиным глазом из-под платка, носом с тягучей горбинкой и тысячелетним ртом, однажды увиденный, втягивая, уже не отпускал от себя.
Читать дальше