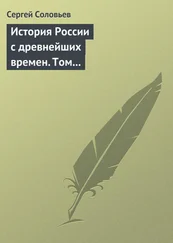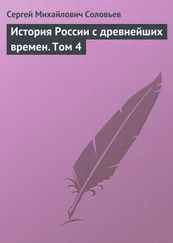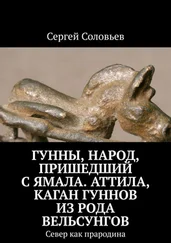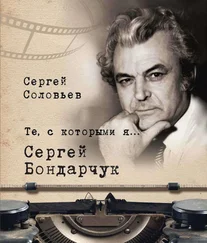Внутри - амбар, заваленный товаром до потолка. Товар - весь - лицом, и лицо его - всё - наружу. Оставлен лишь узкий проход вглубь, в виде подиума, на котором сидит торговец с маленькой фарфоровой чашкой аюрведического чая. Над собранной в пучок головой нехотя потряхиваются на ходу тяжелые вертолетные лопасти вентилятора.
Я собрался было купить себе оранжевые дхоти - это подобье штанов, как у баба. То есть просто кусок ткани, который завязывается на талии и просовывается между ног накрест, затыкаясь затем за пояс. И такого же цвета рубаху - забыл, как она называется. Выбрал, примерил - весь в щебете обпархивающего меня торговца, в юрких клювиках его ладоней - вышел.
"А", - спрашиваю, наклонив голову. Ксения к этому была не готова.
Купил белые парусиновые и такую же рубаху к ним до колен. Для себя она выбрала торбочку с вышитым слоником - под цвет своего офельного болотно-цветущего сари, точнее полупрозрачного шелкового сарафана с шальварами, купленными ее матерью в Индии еще в начале 60-ых.
48 в тени. Дудлим. Она, в основном, воду - покупную, литрушками, выуживая из сундучных лавочных ледников похолодней. Я - пробую все подряд. А пробный ряд на этой кромешно бесконечной улице - что гомеровский журавлиный список.
Под номером 1 - несуществующая в природе ни по цвету, ни по вкусу вязко-воздушная суспензия, стакан с которой, если его не держать покрепче, вознесся б к небу. Сколько б я ни смотрел, как готовят эту амброзию, божество ее ускользает от пытливого взгляда. Все, что вижу: ладони, плод манго, кухонный нож, допотопный сокоотжимник, лед, молоко.
Пьешь: долгий закатный, в себя погруженный луч бабьего лета, стоящий над тихим дремучим прудом.
Пьешь тайну, семеня под собою ногами, отдаляющимися от земли.
Самое невыносимое из этих чудных мгновений творят в сумрачной лавке, вдвинутой открытым задником в Ганг. Садишься под низким матерчатым сводом над проплывающими цветочными блюдечками с затепленными свечами, подносишь к губам эту топленую ворожбу, и неясно уже - кто мимо кого проплывает.
Но жажду этим моголем нимбов не утолить. Да и больше стакана не выпить. А вот тростниковый мозг - это на каждом шагу.
Тележка. У края - курганчик карликовых лимонов и под вздыбленной влажной простынкой - мята в обнимку с джинджером. На другом краю - пук столбнячного тростника. В центре - роторный кафка; зубчатые тиски в виде двух колес, приводимых в движенье колодезным рычагом.
Кафковед выбирает две метровые палки и, вращая рычаг, трощит их, протягивая между колесами. Мутные слезы стекают по желобу в жестяное корытце со льдом.
Затем он сгибает их вдвое, защемив между ними зелень с лимоном, процесс повторяется, завершаясь в четвертом колене; сухой бездыханный мотлох отбрасывается в корзину.
Жадный стакан упоенья. Слезы пустыни.
Джаянт нам пить не советовал, морщась: dangerous, низовая культура.
И - номер 3: дикорастущий звенящий плод, похожий на нашу айву. Сок из его деревянной вяжущей плоти хорош не потому, что хорош для желудка, а потому, что ядрен, буратинист.
Обед мы заказывали, предавшись ассоциативному чтению меню, написанного на хинди. Я выбрал малый кофта, Ксения ткнула палец в нечто непроизносимое, вызвавшее в памяти щетинистый гвадалквивир автомойки. Пить - по стакану ласси, то есть попросту простокваши; из страницы ее вариантов выудили единственный не фруктовый. Кухня с жаровней, как водится здесь, выпростана на улицу - под вздрагивающие ноздри разворачиваемых носов. На столе кувшин сырой простоволосой воды и железные морские стаканы. Ксения отодвигает свой.
Вносят кофту: в плошке - чернявое озерцо с вязнущими в нем по грудь тушеными овощами. Если сверху взглянуть, отдаляясь: разинутые зевальники густосливового табунка бегемотцев, томящихся в грязевой жиже. К ней, на отдельной тарели, девственный рис, крупный, девонский.
У Ксении - огромный румяный рулон, еще перешептывающийся изнутри - на хрустящем санскрите? На палевом пали?
Напали руками и съели.
Второй подвесной мост - километрах в пяти-семи вниз по течению от первого. Но улочка, идущая от него, заметно выхолащивается уже за первым ее поворотом, превращаясь в почти пустынную дорогу, отвильнувшую от реки, и пробуждаясь лишь на подступах ко второму.
Эта дорога войдет в нас как теплая слепота наших ночных возвращений.
Со стороны гор вдоль дороги - руины стены, за которой тянется манговая роща с сидящими на ветвях мельхиоровыми обезьянами с августейшими голубыми очами - это логи, в отличье от рыжих бандер (мичуринские бандерлоги Киплинга), - и затепленными в глубине рощи редкими окнами оседлых садху.
Читать дальше