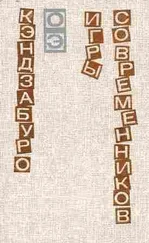Эта его политика встретила неприязнь всех без исключения журналистов. Но было несколько причин, по которым антисавадовские настроения не проникли на страницы прессы. Исключая газету, в которой печатал свои статьи Киби. Прежде всего политик не обвинял студентов, замешанных в инциденте, не задавал им прямых вопросов. Он не стал делать вид, будто собирается судить их. Даже в качестве свидетелей он выбрал главным образом молодых малоавторитетных деятелей культуры и постарался высмеять их, приспосабливаясь к вкусам циничных журналистов. А студенты неистово нападали на политика. Так что, если б журналисты заняли антисавадовскую позицию, это выглядело бы как присоединение своего голоса к отчаянным воплям в поддержку студенческого движения…
Я, одинокий солдат, ведущий сомнительное сражение, наблюдал со стороны, как политик сражается, как он, заманив противника на свое поле, наносит ему сокрушающие удары, и все острее ощущал свое одиночество. Потому, что впервые я должен был занять определенную политическую позицию. Я стал человеком, с ненавистью смотрящим на лагерь противника. Однако я знал, что занять политическую позицию означает слиться воедино со своими сторонниками. Такая механика мне не подходила. Я был одиноким солдатом, с ненавистью смотревшим на лагерь противника.
Иногда я давал показания. Но и при этом не чувствовал себя связанным с политикой. Я испытывал лютую ненависть к членам парламента от «левых» партий, подвергших меня перекрестному допросу, но это совсем не означало, что я чувствовал себя на одной платформе с членами парламента от консерваторов. И, только когда в огромной, раздражающе безликой приемной помещения комиссии корреспондент Киби, глядя на меня своими острыми глазами, по-собачьи честными и в то же время как бы говорившими, что его все это не очень касается, задал мне вопрос, в моем ответе прозвучал голос правды.
— Эта комиссия созвана не столько для того, чтобы установить истину, сколько для прощупывания возможностей Савада — этой темной лошадки консервативной партии. Вас это не возмущает?
— Нет, не возмущает.
— Руками людей, которые вам бесконечно далеки, вы с помощью таких политических махинаций пытаетесь самоутвердиться. Вам это не страшно?
— Нет, не страшно. Мне бы только добиться, чтобы все увидели мою ненависть к ним — одно это меня вполне удовлетворит. Насколько огромным окажется дерево, взращенное на корнях моей ненависти, я пока не знаю. Это интересует прежде всего Савада. Я думаю, вы, журналисты, поможете ему. Мне нечего бояться.
— У вас все качества, необходимые политику. Теперь понятно, чем вы заинтересовали Тоёхико Савада. Под качествами, необходимыми политику, я подразумеваю доведенную до предела способность и решимость быть беспринципным.
— Этим качеством обладают, видимо, и журналисты.
— Кстати, если Тоёхико Савада будет смеяться последним, будьте начеку, чтобы и вам посмеяться вместе с ним. В начале года от Тоёхико Савада отступились и его партийные боссы, и представители финансовых кругов. Ходили слухи, что ему не собрать средств на проведение следующей предвыборной кампании. Теперь другое дело, кое-кто подумывает даже выставить его кандидатуру на выборах губернатора Токио. Такие выходят сухими из воды, хотя его дважды обвиняли в коррупции. Но только ведите с ним дела по принципу: вы — ему, он — вам. Иначе как бы он без вас не посмеялся… Разумеется, я говорю не о женитьбе на этой распущенной девчонке — дочери Савада. Послушайте, а может, вы играете роль щедрого Фауста, продающего душу Мефистофелю? Ха-ха-ха.
— Точно, абсолютно точно. Ха-ха-ха.
Пытаясь приспособиться к новой для меня действительности, я в разгар весны уныло проводил целые дни в Комиссии по вопросам образования, превратившейся для меня в центр вселенной. Это действительно были унылые дни. Я давал показания, и меня больше не охватывало напряжение, от которого темнеет в глазах, как это случилось на моей первой пресс-конференции. Ведь в тот день я впервые предстал перед японцами как человек, занимающийся политикой, впервые в жизни раскрыл перед толпой чужих людей свое нутро. А теперь я привык и даже испытывал удовлетворение.
Может быть, это покажется комичным, но по-настоящему меня пугало в ту унылую весну лишь одно — я терял форму. Я стал заплывать жиром, раздобрел и округлился, глаза затуманились, их точно затянуло пеленой. По нескольку раз в день я принимал ванну, но, когда смотрел на себя в зеркало, видел в нем грязного, точно пропыленного человека… В отношениях с дочерью политика я оказался импотентом. В те дни во мне жил не столько политик, сколько сексуальный маньяк. Сидя перед членами Комиссии, я ловил себя на том, что поглощен мечтой о садистском насилии. «Бей! Уничтожай! Отвергай! Предавай! Ты должен это сделать».
Читать дальше