Срулик выскользнул оттуда прежде, чем его заметили, и направился в сторону библиотеки. Он решил закончить там все, что требовалось, и только потом, когда старик уедет в Яффу, а его жена успокоится, вернуться и забрать чемодан. На его столе в библиотеке по-прежнему лежала книга «Авраам», обернутая в газету, и когда он снял обертку и книга обнажилась, как открытая рана, какая-то женщина вбежала в помещение, крича:
— Скорее! Надо вызвать карету «скорой помощи»!
Он не знал, кто это, хотя лицо ее было ему откуда-то давно знакомо. Она посмотрела на него и сказала:
— Я — Мина Визель, соседка твоих теток. Элька упала на пол, ее разбил паралич. Она лежит и не может ни двигаться, ни говорить. Я хотела вызвать карету, но Этель мне не дает. Она не разрешает привести доктора. Она наклоняется к Эльке, разговаривает с ней и пытается открыть ей рот. Этель все время пытается силой открыть Эльке рот. Она выгнала нас из дома, меня и Билху Сегаль, и всех соседей, и заперла дверь. Ты должен скорее прийти. Она только тебе откроет дверь и только тебе позволит привести врача. Иди скорее! Жизнь Эльки в опасности. Каждая секунда дорога.
Срулик выронил книгу и побежал к тетушке Эльке, оставив дверь открытой.
Конец пробуждения на улице Пророков
Уже долгие годы лишен я радости пробуждений того лета на улице Пророков, в доме Гавриэлева отца, старого турецкого бека, напротив окна его матери с мечтательными глазами. Та радость пробуждений существует ныне лишь в щемящих воспоминаниях и в наивной надежде на ее возвращение в один прекрасный день.
Тем летом я впервые в жизни увидел Гавриэля. Спустя долгое время после исчезновения из библиотеки Бней-Брит маленького библиотекаря, чьи следы затерялись, господин Гавриэль Ионатан Луриа вернулся из Парижа в тот момент, когда я набирал воду из колодца. То был великий и необычный день в моей жизни — день, когда я собственными глазами лицезрел с близкого расстояния, с другой стороны улицы, Царя Над Царями Царей, Опору Троицы, Божьего Избранника, Льва Иудеи, Императора Абиссинии Хайле Селассие. С того дня течение моих радостных пробуждений, полное неизъяснимо томительного ожидания, начиналось со смутного предчувствия четкой тени и сильного голоса Гавриэля, готовящегося к утреннему бритью на балконе, в кресле красного бархата перед железным столиком о трех ножках. До возвращения Гавриэля волны нетерпения, набегавшие на радость рождения нового утра, были прозрачны и открыты всякому сюрпризу, кроющемуся за оградой, в тайнах камней нашего дома, в изгибе дорожки, подобно приливам ожидания, охватывавшим меня, когда я открывал любую книгу, принесенную из библиотеки. И они обладали запахом, но в отличие от запаха бумаги, присущего предвкушению приключений в жизни, сокрытой в книгах, утреннее нетерпение несло с собой тонкий и чистый запах росы, сохнущей на камне, на чертополохе, на оливе, к которому примешивался аромат мыльной пены и сигаретного дыма с тех пор, как Гавриэль вернулся и бросил свой отблеск на первые волны томительного ожидания, выраставшие из радости пробуждений того лета на улице Пророков.
Сам Гавриэль в то лето уже не ведал этой радости, и уже давно на него было просто больно смотреть по утрам из-за излучаемой его помятым заспанным лицом ненависти ко всему этому миру, навстречу которому он против воли просыпался. В тот момент, когда глаза его открывались, он вскакивал с постели решительным и резким рывком, казавшимся жизнерадостным тем, кто не видел выражения его лица при переходе от сна к яви — выражения лица человека, бросающегося в бездну, из которой еще никто не возвращался. С того мгновения, когда ступни его касались дна пропасти, случайно совпадавшего с полом у подножья его кровати, сей дерзкий порыв замирал и постепенно, вплоть до чашки кофе, сходил на нет, пережив столкновение с преградой в виде табуретки и поддерживаемый устойчивыми шкафом и стенами. Власть над частями тела, всеми вместе и каждой в отдельности, словно бы покидала его и возвращалась лишь после первой чашки кофе — ибо ему требовалось две чашки кофе для упрочения своего положения в царстве дня. До первой чашки кофе — так свидетельствовала его мать в минуту благоволения — он пребывает в мире пустоты и безмолвия, а в минуту гнева говаривала, что до первой чашки кофе в нем проявляется все злонравие, унаследованное от распутника-отца, старого турка, ибо он кость от кости его и плоть от плоти. Не раз он предупреждал меня об опасности встречи с ним при раннем вставании, поскольку «до первой чашки кофе, — так он это объяснял, — нет царя в Израиле: каждый поступает по своему разумению» [37] Парафраз Книги Судей, 21:25.
. Затекшие со сна ноги слабеют и расползаются в разные стороны, а член, напротив, дерзит и самовольно поднимает непокорную главу, когда его никто не просит, распрямляется и возносится над целым миром из пижамной прорехи. И вот, водворяя его на место и прикрывая одной не повинующейся ему рукой и опираясь на стены другой, тоже бунтующей, Его Величество Гавриэль собственной персоной пытается, витая без опоры где-то на краю Вселенной, повелеть вратам мира отвориться, дабы он мог войти в них. Но глаза его, охваченные путами сна, стремятся вспять, вслед за отступающими снами, уши отяжелели от глухих призрачных отзвуков, ноздри вдыхают вонь гниющего мяса, а во рту — тлен и прах. Прежде чем не выпьет кофе, он попросту не мог извлечь из своего охрипшего горла ни звука, а когда приходилось это сделать, даже в связи с приходом милого ему человека, из уст его вырывался не голос, но злобный рык.
Читать дальше
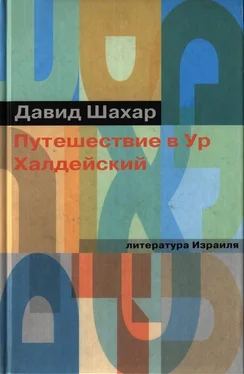
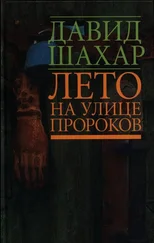
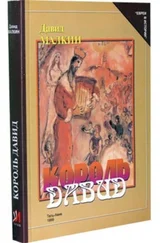



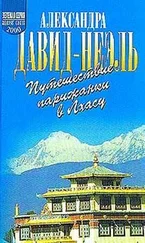
![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)



