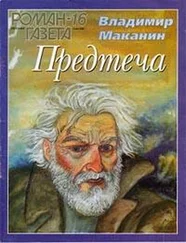Был у них фургончик, больше ничего; просыпались они обычно под боевитые крики Аполлинарьича. Старичок уже с утра чувствовал себя подвижником и сипло выкрикивал:
— Подъем!.. Пора осваивать — здесь миллиарды лежат под ногами, миллиарды!..
И еще кричал:
— Здесь самый передний край — здесь всем тайгам тайга!
Подгоняя, и сам спешил, нервически дергался. Глуховатый, он кричал чуть ли не в ухо Павлу Алексеевичу, который уже вздрогнул, уже сел и протирал заспанные глаза:
— Быстрей! Ты бабник и лентяй! Надо копать, копать — планета ждет, черт бы тебя побрал!
Посмеиваясь, Павел Алексеевич наспех ел. Они не умывались, они сразу же шли и копали колодцы. Аполлинарьич, возрасту вопреки, копал как остервенелый: не считая и не желая считать времени, он копал, пока не садилось солнце. Не один и не два раза старичок в трудах своих так увлекался, что Павлу Алексеевичу приходилось в темноте искать его по истошным крикам или даже вытаскивать, выволакивать его из глубокого колодца, ибо зарывшийся в землю Аполлинарьич самостоятельно вылезти в ночной тьме уже не мог. Чем старик кончит, было ясно и просматривалось вперед уже сейчас. Павел Алексеевич сбрасывал ему вниз конец веревки, а тот ею обвязывался, придерживая в руках лопату, кирку и мешочки с грунтом. «Тяни, собака! — кричал Павлу Алексеевичу фанатичный старик. — Тяни, мать твоя колхозница! Тяни сильней! Тайга слабаков не любит!» Но, в общем, они жили уступчиво и мирно, если не считать тех нехороших дней, когда Павел Алексеевич заболевал, потому что старик сам никогда не болел и в болезни не верил.
Неделя была как раз нехорошей: Павел Алексеевич напился стоячей воды, ему прихватило живот, и он еле двигался.
— Если болен, то почему улыбаешься?
— А? — У Павла Алексеевича кривился рот, а старику казалось, что он смеется.
— Почему улыбаешься?..
Аполлинарьич не сомневался, что все это одни мелкие хитрости и что его единственный работяга симулирует; он сыпал ему на ладонь какие-то разного цвета таблетки на ночь глядя, а утром знай орал свое:
— Копай. Планета ждет! — На этой неделе старичок Павлу Алексеевичу в особенности не верил, считая, что тот, возможно, замыслил втайне удрать: приближались два вертолетных дня.
Часам к одиннадцати, едва солнце начало припекать, Павла Алексеевича охватила слабость. Пока долбил землю, было терпимо, но едва разогнулся, чтобы нагрести грунта в мешочки, в глазах потемнело, затрясло, работа не шла: плечи, как чужие, при всяком движении натыкались на стены колодца, скребясь, обдираясь о торчащие камни, кое-как Павел Алексеевич стал выбираться наверх. Он выбрался. Он решил передохнуть, без объяснений, чтобы не слышать лишний раз стариковский сиплый крик: Аполлинарьич копал за бугром, и пока он там выдолбит свои два колодца, Павел Алексеевич отлежится. Он вернулся к фургончику. Джамиля разогналась покормить, но Павел Алексеевич есть не мог. Он только спросил чаю — сидел и пил.
— Твоя худеет, — сказала Джамиля. Она сидела рядом и ласково на него смотрела. — Очень даже твоя худеет.
— Болею.
— А не пей больше болото — как можно человеку болото пить?..
— Не буду. — Павел Алексеевич улыбнулся. Она была чудовищно крепка телом, толста и косноязычна, но с ней было просто. Джамиля гнала целебный самогон из дикой ягоды и курила коротенькую глиняную трубку; ходила она в шароварах, в грубом платье с большими карманами. После чая (он пил чашку за чашкой) Павел Алексеевич прилег, а Джамиля вынула из кармана трубку, чтобы та не сломалась, и, громоздкая, повозившись сначала и поерзав, прилегла теплым телом рядом. Она гладила ему лоб, отирая мелкий пот:
— Твоя сильный!
В нем была та сухая, постоянная боль, в которой люди попроще все еще видели некую особенность, исключительность.
— Твоя сильный. Твоя сладкий… Мне хорошо с твоя. Твоя сильный и обязательно выздоровеет.
— А? — Павел Алексеевич выпал из дремы.
— Твоя хороший. Твоя добрый. Моя никого не любить в жизни, как любить сегодня, — повторяла она. Истомив себя, она жарко задышала и отодвинула еще дальше глиняную трубку. Павел Алексеевич приласкал, хотя и был слаб. После близости Джамиля любила понежиться; и вот она нежилась, глядела на строй ельника и вверх, над головой, — в озерцо неба. Она негромко приговаривала, млея, и нахваливаясь, и даже нежничая с самой собой.
— А я еще тоже сочный, да? — бормотала она, призакрыв глаза. — Я сорок лет, я не девочка, но женщина цц-ц-ц. Моя женщина с изюминкой — ага?
Читать дальше