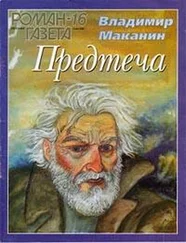А отдушины нет — он проиграл «мебельщику», и уже три или четыре месяца он не видел Алевтину. И даже не звонил. С трехмесячного расстояния Алевтина уже как бы не Алевтина; чем далее, тем сильнее она смыкается и сращивается с этим словом. Жизнь слишком насыщена, чтобы держать в голове и конкретно помнить вздорную, и шумливую, и грудастую, и завывающую при чтении стихов поэтессу. Зато взамен ее, взамен живой женщины в памяти возникает и идет в рост слово «отдушина», оно пускает корни, оно растет и раскидывает крону, и объем, и свою даже тень, как раскидывает объем, и крону, и тень большое дерево. Оно становится понятием, оно становится звучащим и грандиозным словом и заполняет сознание Стрепетова, требуя там, в сознании, своего места и своей доли. Алевтина или не Алевтина, неважно; важно, что была отдушина, теперь ее нет, — вот что точит Стрепетова…
А любимый профессор (то есть тот, у кого Стрепетов в любимцах, это точнее) говорит ему:
— Плохо выглядите, Юрий. (Нездоровы?)
— Да нет, я в общем здоров. Разве что нервы…
— Что, что?
— Нервы.
— А гимнастика?
— Ненавижу гимнастику.
— Напрасно. — Они встретились в коридоре. Они прогуливаются — преподаватель старый и преподаватель молодой. Студенты в одиночку, и стайками, и целыми косяками огибают их и дают зеленый путь. Любимый профессор тем временем рассказывает о гимнастике йогов. О том, как полезно пить кипяток поутру. О том, как важно отлаживать глубокое дыхание в позе лотоса. А поза змеи гарантирует интенсивную и бесперебойную работу пищеварительного тракта. Стрепетов слушает и дается диву: что за поколение, они умеют увлекаться чем угодно. Веры в старом смысле нет, однако способность верить еще не кончилась и не сошла на нет, отсюда и чудаковатые… Стрепетов продолжает беседовать, а в параллель чувствует, что те незабвенные два-три часа отдушины неумолимо приближаются — промежуток меж работой и домом все ближе, — а вот пойти ему, Стрепетову, некуда.
Некуда — и Стрепетов перебирает в памяти заменители, но они, как и положено заменителям, малопригодны. Есть, к примеру, молоденькая аспирантка, Варей зовут; и влюблена, и мила, и с квартирой, однако отдушины там не получается. Звонит часто. Дергает. Расспрашивает о жене. Главное же, что все или почти все ее разговоры о науке, о диссертациях, об оппонентах — и этим немедленно подстегивается недремлющее тщеславие Стрепетова, а тщеславию тоже нужен отдых: лошадку, которая тебя везет, нельзя гнать и днем и вечером. Есть еще вариант: маникюрша, тридцатилетняя, умненькая, дает все, что нужно, и не спрашивает, что не нужно. Однако у нее братец — шумливый, обидчивый, вдруг приводит всякую братающуюся полупьянь, и уже через десять минут нет тишины, нет кайфа, нет отдушины. Не то.
Пожалуй, суть даже не в маникюрше, не в аспирантке и не в их разбитных братцах и сестрах — суть в том, что его, сорокалетнего преподавателя, с детства помешавшегося на стихах Лермонтова, тянет к Алевтине, и именно к ней. Это как любовь, а может быть, это и есть любовь или вид любви. Отдушина — это отдушина, и никак не меньше; это, пожалуй, индивидуально и избирательно, и не всякая женщина годится в отдушины, как не всякая женщина годится в жены. А уж если тянет к стихам, не такое уж оно мелкое чувство, не прихоть и не блажь; тут своя боль, отдушина как-никак от слова «душа», и некоторые, например, старики на последнем своем больничном матрасе ни о чем более не думают, кроме как о той или иной отдушине; детство, между прочим, тоже отдушина.
И совсем не случайно в некоторые минуты туповатый или, скажем, хитроватый Михайлов делался ему даже симпатичен. Тоже ведь человек и тоже собачится. И уж во всяком случае у Стрепетова нет и не было к Михайлову той неприязни, которая нет-нет и полоснет (могла бы полоснуть) по сердцу, когда подумаешь, что он с той же женщиной, с твоей женщиной, знаешь, и он тоже про тебя знает, и оба знаете, и все трое, пожалуй, знаете или догадываетесь.
— У тебя, чувствую, тоже жизнь замотанная, — сказал Стрепетов как-то Михайлову (Алевтина печатала на машинке свои творения).
— Замотанная…
— И тоже только тут можешь расслабить ноги?
Михайлов усмехнулся, не ответил и словно что-то свое спрятал.
— О чем это вы? — спросила Алевтина, на миг отвлекаясь.
— О ком, — засмеялся Стрепетов. Он невольно сказал тогда мирные слова Михайлову — сказал и тут же дал тормоз, не переходя слишком границу. Минутная симпатия — это минутная симпатия, не больше, а взаимное высиживание продолжалось и даже усиливалось в те дни, пока хитроватый Михайлов каким-то образом не высидел Стрепетова окончательно.
Читать дальше