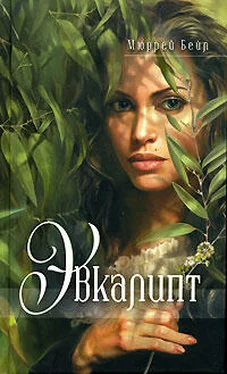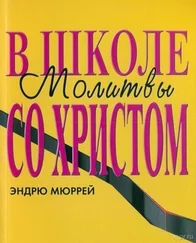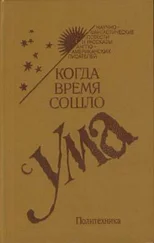Между тем будущий дантист по-прежнему находился между жизнью и смертью. Босс, перед докторами симулировавший ложные симптомы того ради, чтобы остаться рядом с другом, вывозил его в кресле на солнышко, усаживался рядом в плетеное кресло и строчил письма. Во время одной из таких недолгих прогулок раненый застонал: кресло подпрыгнуло на камне. А в другой раз на ощупь дотянулся до плеча друга.
— Ты — лучше всех.
Постепенно, словно невзначай, письма сделались дерзкими до бесстыдства, в высшей степени двусмысленными. Вспоминая фотографию, Босс расхваливал до небес ее бедра и ее ступни — которые, между прочим, и в кадр-то не попали! — и строил предположения касательно ее характера. Медленно и неспешно он раздевал девушку, подробно описывал ее белье — и вот уже она стоит перед ним обнаженная, писал он. В конце концов, он — солдат, а солдату пристало быть храбрым.
Отвечала она с опаской. Отшучивалась.
Почерк уже не казался девушке незнакомым. Твердые, решительные линии букв и темные чернила страница за страницей дышали упрямой настойчивостью под стать словам и мыслям, не высказать которые он просто не мог. А поскольку теперь он писал всякий день, девушка не успевала прийти в себя от одной подборки далеких грез, что звучали властными требованиями, как уже прибывала следующая, и еще одна, и еще; или, из-за сбоев военного времени, разом приходила целая пачка из семи-восьми писем. Есть такой новомодный военный термин, «ковровое бомбометание»: уцелеть под ним практически невозможно. Вот что-то в этом роде оно и было.
Со временем, очень нескоро, тяжелораненый поправился настолько, чтобы вернуться домой — хотя зрение его по-прежнему оставляло желать лучшего. На корабль его внесли на носилках; Босс шел рядом и обещал, что после войны непременно его отыщет. Они пожали друг другу руки, обменялись адресами.
В этот самый момент — очень вовремя, что называется! — скорбно раскаркалась ворона. Не успела Эллен сказать хоть что-нибудь, как рассказчик уже обернулся к ней.
— Для начала загляни в пригородный отель-другой — в те, что с широкими верандами, — улыбнулся он. — И присмотрись к женщинам за стойками — тем, что от пятидесяти и старше: как у них там с зубами?
И вновь этот чужак, вторгшийся на ее территорию, зашагал вперед. Эллен отчетливо сознавала, что послушно идет следом — при том, что могла бы находиться где-то в другом месте и заниматься другими делами.
Дом остался далеко позади.
Неспешно прогуливаясь туда-сюда, молодой человек словно бы ничуть не интересовался своей спутницей; зачастую он даже от мухи не трудился отмахнуться. И тем не менее эти двое часами бесцельно бродили куда глаза глядят, вместе, не испытывая ни малейшей неловкости: вот так люди посторонние чувствуют себя вполне уютно, сидя бок о бок в темном кинозале.
— А тебе домой не пора? — внезапно осведомился он. — Сколько времени-то?
Такие вопросы ответа не требуют; зачастую они просто-напросто повисают в воздухе, как наиотраднейшие, открытые утверждения. Что сказать, если отец спросит, где она была? Слова, слова, слова, час за часом, от дерева к дереву.
Занятно, как незнакомца словно притягивает одно дерево, но не другое, — вроде как кусок свинцового кабеля, образуя треугольник, тащит его по прямой. Вступая в истории, или в наброски историй, Эллен видела, как они прорастают из названий эвкалиптов, причем чаще всего — из наименее цветистых, самых что ни на есть заурядных названий. А ежели многие из этих историй и возводились на основании шатком и непрочном либо на абсолютно неверном толковании названия — так что с того?
Здесь, на открытом пространстве, рос эвкалипт камерунский, Е. cameronii: высокое дерево с серой волокнистой корой.
Незнакомец сорвал узкую ленту мягкой коры. В воздух поднялось облако пыли.
Молодые люди задержались в чахлой тени эвкалипта камерунского, которая, по правде сказать, смахивала на фотонегатив кроны; незнакомец принялся расхаживать взад-вперед, то выныривая из тени, то вновь в нее погружаясь: не иначе, как вспомнил очередную байку — еще одну из постепенно убывающего запаса военных историй, историй о насилии — историй темно-серого оттенка. А Эллен отнюдь не была уверена в том, что серый цвет ей по душе, идет ли речь о корабле, о туфельках или платье; уж больно он маскулинный, весь такой металлический. Бывают, конечно, и исключения: например, зимние небеса в определенные моменты или мягкое оперение какадугала, что, словно сочась кровью, гармонично окрашивается в розовое.
Читать дальше