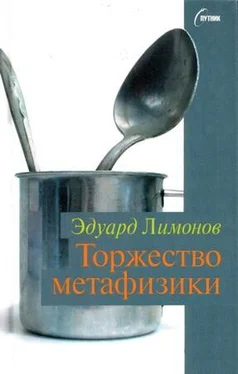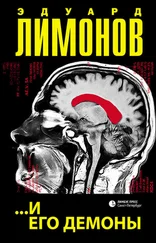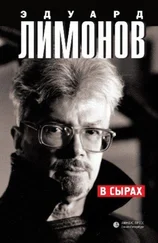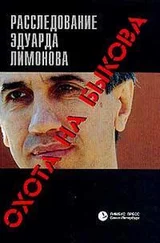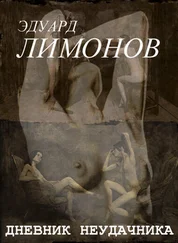Одно из самых важных действий дня в колонии — это проверка. Или поверка? Я так и не смог выяснить для себя правильное написание и произнесение этого слова. По-армейски надо бы «поверка». На самом деле ни зэки, ни наши офицеры-надзиратели часто не знают, как следует твердо писать самые употребительные слова. В тюрьме, я помню, пытался выяснить, как писать «дальняк». Через «а» как производное от дальнего места или же через «о», где зэк раскорячился, и его задница разошлась на доли. Так и не выяснил.
Проверок на красной зоне №13 три. Утром, около полудня и вечерняя. Все отряды выстраиваются в локалке, то есть во двориках отрядов, вся колония. Не выстраиваются только больные, спящие с ночи и те, кто находится на таких работах, откуда невозможно явиться в отряд, и еще, разумеется, те, кто находится в карцере, они стоят у себя в карцере. «Отрядам построиться на поверку…», — гундит радио. И зэки кряхтя строятся в обычном порядке: бригада за бригадой, по пять осужденных в шеренге, шеренгами. И замирают, разглядывая затылки, шеи и плечи впереди стоящих осужденных. Пыль на плечах, плеши, спавшие волосы или перхоть, угри и прыщи, если таковые есть, обтрепанное или даже новое кепи. Стоим остолопами под палящим солнцем, и ноги наши затекают от тяжести наших тел. Каждая проверка длится от тридцати минут до часу. В среднем минут сорок пять. Но бывает, что у наших ментовских офицеров не сходится баланс зэкопоголовья, и тогда они пересчитывают нас отряд за отрядом, злобно матерясь, а зэки стоят, изнемогают от жары и удушья, злобно матерясь, но молча, внутри себя.
Я не матерюсь. Я стою, сдвинув кепи на затылок так далеко, как позволяет лагерное приличие, и солнце жжет мою некогда белую, по прибытии в лагерь она была белая, а ныне уже темную физиономию. Я обожатель Солнца, Ра и Гелиоса, и через лицо моя башка омывается горячим светом Вселенной. Подваренная всмятку моя башка. На большей части проверок я ими наслаждаюсь. Наслаждаюсь отупением этих тяжелых минут, аскетической уединенностью от других. Ибо на проверке зэки замерли, не галдят о пустом, вынужденно замерли и исчезли. В то время как зэки пытаются встать как можно правее — там падает тень наших отрадных деревьев, там устроился Али-Паша, туда же норовит присоседиться Акопян, я стою на левом фланге с самыми отпетыми, безразличными к стуже и зною. Левее меня в моей шеренге немец Штирнер, перед ним в предстоящей нашей шеренге невозмутимый стоик и отщепенец Варавкин, а прямо передо мной затылок и купол черепа Васи Оглы. Этим людям наплевать, солнце ли, тень ли. Варавкин стоит в туфлях на размера три больше его ступни. Это видно сзади, поскольку стоящим за ним видно, что задники его туфель пустые. И туда можно засунуть добрый кулак. Штирнер, с облупленным носом аккуратный молодой человек, наш отрядный журналист, осужденный за убийство, показывает мне на задники туфель Варавкина и прыскает смехом. Беззвучно, разумеется. Варавкин стоит гориллой, руки уронены вдоль бедер, рукава куртки длиннейшие, почти закрывают руки. Кепи надвинуто глубоко на глаза. Варавкин — одинокий тип. У него нет хлебников. В пищёвке он пьет чай и ест из баночек один. Он ни с кем не разговаривает. Он единственный, кроме меня в отряде, кто не курит. Мать Варавкина, говорят, торговка. Физиономия его, испещренная шрамами от прыщей и фурункулов, бесстрастна. Он таки настоящий стоик. И когда его избили на промзоне, он бесстрастно заболел и лежал страдая под одеялом, укрывшись с головой. Он обратился ко мне лишь несколько раз: «Савенко, можно взять твою ручку?» Я разрешил ему. Потом я отдал ему ручку, дело в том, что у меня с собой был десяток ручек в моем бауле. Варавкин стоит монстром, под козырьком непонятные глаза, и, глядя на него сзади сбоку, видно, что он едва заметно улыбается. Чему? Ему смешон мир, в который он попал? Ему смешны мы, осужденные, смешна наша локалка, синие ограды, колючая проволока, beau garçons , ребята и козлы, ему смешна Via Dolorosa , по которой он шагает на промку и возвращается избитый?
Я уже упоминал, что Варавкин мой сосед по спалке, если я ложусь на спину, то шконка Варавкина от меня справа. Как долго вместе с Христом содержался разбойник Варавва? Штирнер, носящий имя германского философа, персонаж сварливый и воинственный. В чем-то он походит на Варавкина, думаю, своенравием своим. У него тоже нет хлебника, однако с зэками он общается, предпочитая общаться с активистами, которые могут ему быть полезны. Он председатель секции СК, то есть собственных корреспондентов, и усиленно пишет для газеты зэков Саратовской области «Зона». Пишет он на заданные темы, темы ему дает Богачев — глава секции собственных корреспондентов колонии. Когда я короткое время принадлежал к 16-му отряду, я общался пару-тройку раз с этим Богачевым. Однако отношения эти сводились к двум-трем кратким разговорам. Такое впечатление, что Богачев опасался, что я стану претендовать на руководство секцией. Я дал ему понять, что опасаться не следует. Я сообщил ему, что у меня не только нет амбиций становиться председателем секции, но что я вообще не хотел бы писать в тюремную газету. «Видите ли, — объяснял я ему, — я занимаюсь политикой, и я не хотел бы ставить себя в такое положение, чтобы после тюрьмы меня могли бы упрекнуть в сотрудничестве с тюремной администрацией». Богачев посмотрел на меня с большим сочувствием, по-видимому, подумав: вот принципиальный идиот, но отношения наши сделались с тех пор приятными. Впоследствии он увидел мой текст: предложения, высказанные мной психиатру-капитану Евстафьеву, и очень высоко оценил его. Штирнер, когда мы познакомились, сообщил, что Богачев высоко отозвался об этом тексте: «Не наш уровень, человек высокого полета», — якобы сообщил он Штирнеру уничижительно…
Читать дальше